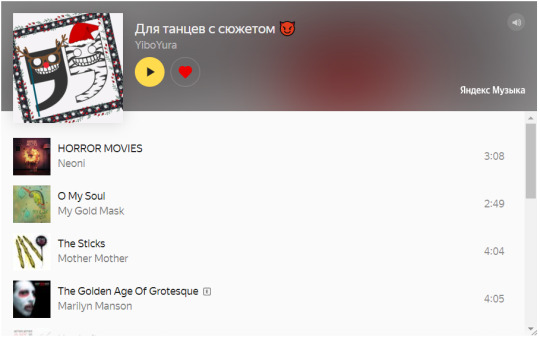Text
Белый тигр, зелёный лев

То, что китайцы вкалывали до потери пульса, не знали разве что марсиане, хотя может и те подсмотрели. Но одно дело знать, другое — ощутить на собственной шкуре. Юра так вкусил и выкусил, что захотел укусить. Цепануть бы зубами этого китайца за уебищный распорядок дня, думал он. Потом добавлял: своего китайца. Ван-Ибобо. Пробовал на слух, ухмылялся. Но укусить реально хотелось. За то, что предложил дружить несколько месяцев назад, а сам только пишет адские голосовухи в короткие перерывы. Адские, потому что в сочетании с всратыми китайскими мемами и ваныбовским гыгыканьем вызывали сильные приступы смехокеканья. Юра прятался ото всех, чтобы всласть поржать и не словить подозрительных взглядов. Записать такую же обратку и послать пару дебильных селфи. Точно таких же, что прислал ему Ибо. Два дебила — это сила, чо. Но для дружбы этого было мало. Да ещё и часовые пояса издевались над ними. В самый разгар тренировок Ибо, готовый уже отрубиться, звонил ему, чтобы хотя бы пять минут поболтать и позырить друг на друга. И пусть сглатывать недовольные взгляды дяди Яши. Те до сих пор застревали в Юре противным комом, даже когда на все остальные ему было плевать.
— Тебе наших, что ли, не хватает? — сказал дядя Яша, протягивая ему бутылку с водой. Хорошо, что Юра успел сказать телефону “спи давай уже” и отключиться.
— Вон сколько прыгает. Будущих чемпионов. Или тебе действующего подавай?
— Он прикольный. Работает дохера, — ответил Юра и спрятал телефон в сумку. Как будто в этом телефоне был реально Ибо, которого делить с кем-то… Да ну нафиг.
— Даа, — протянул дядя Яша, — китайцы с каждым годом лучше и лучше. Скоро до наших медалей доберутся.
— Не доберутся, — Юра дернул плечом в ответ. — Нашего — не отдадим. Пусть только попробуют забрать.
— Ты о себе, что ли? — хмыкнул по-доброму. — И не думай. Дружба дружбой, а за страну выступать даже под чёрт знает каким флагом…
— Да не думал я! — перебил Юра, вскидываясь. Потом замялся — нелепо вышло, дядь Яша не серьезно, чего это это он так. Хотя знает чего. Дружба эта больно колет. — Место своего я не отдам, — добавил уже спокойно.
— Так дуй уже на лед. Который раз за сегодня с рабочего ритма сбился.
— Дую, дую, — проворчал Юрка, а через пару минут захерачил лучшую версию акселя.
Колено он потянул знатно и очень бесился. Никакой нагрузки в течение трех недель — это как они вообще представляют?
— Скажи спасибо, что не гипс, — сказала стоявшая над душой Мила. — На, я тебе свой набор принесла. Тебе какой тейп — голубой или розовый?
— Давай зеленый.
— Так, а почему не розовый?
— Потому что зеленый не розовый! — сделал рожу кирпичом Юра. Так же, как любил делать Ибо. Ну не объяснять же Милке, что зеленый — это цвет фанклуба чемпиона Китая Ван Ибо. И он так хочет его поддержать. Мысленно.
— Юр, тут такое дело. У тебя ведь есть уже, так сказать, наработки в общении с самураями китайскими, — сказал дядя Яша после подозрительного разговора по телефону.
— Самураи так-то в Японии, — хекнул Юра, вспоминая одного конкретного японца, который идет в паре с таким же невспоминательным русским.
— Ты понял. Китайцы свою Олимпиаду продвигают, приглашают на съемки передачи. Спортсмены из других стран, китайские спортсмены. И мир, дружба, лапша или что они там любят.
Кинзу они любят, подумал про себя Юра.
— До Олимпиады ещё жить и жить, чего они вообще, — сказал.
— Мы же с тобой о ней думаем, а им не только участвовать, но и проводить. Съезди, развейся.
— А, вот значит как! Придумали, как меня ото льда отвааадить. Тоже мне ВАДА с допингом, — решил быкануть Юра. Потому что ни в какие ворота уже! — А если сустав быстрее заживет, а я такой, привет, я в Китае, обнимаю панду?
— Да тебе и так минимальный срок дали! Всё! Неделю ещё на физиотерапию походишь, а дальше дуй в Китай, устраивать дружеские китайско-русские отношения.
— Дядя Яша, мое колено больше в самолете устанет…
— Так, покажи, как тейпы наклеил. И даже не думай без них ходить!
— Да чо, первый раз, что ли!
Юра препирался, а внутри что-то шкворчало и жалило. Есть хороший шанс, что он увидит Ибо. Пусть недолго, пусть. Хочется поговорить, но чтобы близко. В глаза посмотреть, а не экран. Может Ибо вообще бесить его будет, когда так, рядом. Они же и не общались толком. Взглядами больше перекидывались, а хочется и ртом. Ртом вообще много чего хочется. Укусить например. Или ещё что.
Юра несколько раз колебался: рассказать обо всем Ибо? Вдруг тот будет занят другим и сниматься не планирует? А Юра ему напишет, и этот китайский китаец поменяет планы тренировок или ещё какие-нибудь планы из своей китайской вежливости. Или что там у них. А может наоборот ответит, что сейчас занят, и встретиться не выйдет. Будет неловко.
Юра решил, что все расскажет уже на месте. Если Ибо найдет время — отлично. А нет — так нет. Страдать он по этому поводу не будет. Вот ни капельки! Ни хуяшеньки!
В Пекин Юра полетел один. Его встретила маленькая делегация из двух очень китайских девушек, говорящих на русском. Те попросили надеть капюшон худи и очень быстро провели его по отдельному коридору аэропорта до припаркованного на закрытой стоянке микроавтобуса. Под конец Юра даже фыркнул — не такая он и важная персона.
— И к чему такие почести? — спросил он, когда они удобно расположились на автомобильных сиденьях.
— Если бы вас узнали, то пришлось бы вызывать охрану, чтобы отбиться от толпы фанатов, — ответила Чжан Тинг, ещё в аэропорту представившаяся его личным куратором.
— Что, прямо толпа? — удивился Юра, не припоминая никаких его фанклубов в Китае.
Чжан Тинг со своей спутницей, имени которой запомнить так и не удалось, переглянулись.
— Вы у нас знаменитость, — почему-то осторожно сказала Чжан Тинг.
— С хуя ли… С чего это?
— Вы же с нашим ледяным принцем дружите, и некоторым фанатам так ваша дружба понравилась, что они, как это сказать, развили мысль. Ну эта… мысль понравилась очень многим. Напридумывали разного, но не берите в голову.
Юра напрягся. Он-то думал, что о его дружбе знают всего ничего, а тут оно каким-то боком вылезло в государственном масштабе. Да и что могли придумать фанаты? Они же от силы на публике появились рядом ну раза три. Дружат и дружат, чего бубнить-то? Да и пофиг. У Ибо лучше об этом спросит. Почему только тот ничего ему не рассказывал? Или эту фанатскую хрень сам игнорит и считает, что и Юре нечего на нее внимание обращать?
Юра покусал губы и забил. Смотрел в окно на небоскребный Китай, который резко сменялся на теремки-пагоды, затем снова прорастал заковыристыми, светящимися в надвигающейся темени высотками.
Оказавшись в гостиничном номере, Юра с кайфом прыгнул на кровать. Колено благодарно отозвалось комфортом. Потом устыдился, стянул кеды, потянулся за телефоном. Пальцы горели набрать сообщение Ибо, но время в Пекине должно было вот-вот перевалить за полночь, и его китаец скорее всего видел китайский сон. Юра громко выдохнул и быстро перекусил заморской едой, что дали ему в контейнере. А потом, поймав гостиничный ви-фи, полез на Вейбо. Он знал, что это популярная социальная сеть. Полное собрание всех китайцев.
Аккаунт Ибо найти было очень просто. Найти просто, а вот вылезти нет. Юра сам видел, что Ибо классный. Но на профессиональных фотках тот смотрелся иначе. У Юры тоже были такие — и с отстраненным лицом, и с идите-на-хуй ухмылкой. Но вот таких, как у Ибо не было. Чтобы такой офигенный, но недоступный. Табличка — “осторожно, здесь ахуенно, дальше прохода нет”. Заколочено наглухо, давай, поворачивай. Но только не для Юры. Для него вот открыто, потому что Ибо ему друг. Телефонный дружбан по гыканью, с которым можно было потрещать за фигурку или обсудить очередной шедевр Марвел. Можно спрятаться в темных коридорах Ледового и позалипать на сонного китайца. Ловить себя на мысли, что сейчас бы очутиться в Пекине. А сейчас ничего ловить не надо, но можно прогуляться по тегу из трех ваныбовских иероглифов.
И ничего себе прогулялся. Уже на второй минуте Юра увидел себя. И Ибо. Гугл-переводчик, фурычивший только через VPN, перевел как “ледяной принц растаял и превратился в лужу, хехех”. Юра хихикнул. Фотка была самой обычной: они стоят рядом, он смотрит прямо, а Ибо радостный, улыбается и смотрит на него. Пристально только чего-то. Удачно кадр вырезали. И другой подобный. Ещё, и ещё.
А вот на этой фотографии Юра соприкасается с китайцем плечом, а тот запрокидывает голову и ржет, выставляя на показ застрявшее в горле яблоко. Тут что такого? Юра нахмурился, пытаясь вспомнить, что там было. Кажется, тогда китаец предлагал самые очумелые планы побега, а он пытался сдержать смех — официальное же мероприятие, куча камер! Он здесь не пальцам деланный Юрий Плисецкий. Потом не выдержал — толкнул Ибо в плечо, а тот загыгыкал так громко и раскатисто, что пришлось отвернуться, чтобы не согнуться пополам. От смеха.
Пользователи Вейбо, видимо, взаправду считали Ибо ледяным. В комментариях писали, что раньше ни разу “принца” таким не видели. Глаза бы сначала из жопы достали, да с мылом помыли.
Юра не стал дочитывать всю китайскую писанину, а крутанул дальше. Вгляделся.
— Чоо, — прошипел он, опознав на рисунке себя и Ибо, переплетающихся между собой ветками и делающими друг другу искусственное дыхание с языками. Смачно так лизались, аж горло как-то разом пересохло. Откуда, пиздецнахуй, такое? Разве они как вырвиглазы Никифоров с Кацудоном?
Надо было все-таки закрыть Вейбо, завести будильник и отрубиться. Потому что Юра мрачнел с каждой новой картинкой, но не мог оторваться. Нелепые и круто склеенные манипки, мемы, комиксы, фальшивые скриншоты переписки.
В Вейбо, на китайском.
Ебанулись.
А потом увидел интервью с английскими сабами, где у Ибо спрашивали, действительно ли он общается с российским фигуристом Юрием Плисецким. Тот кивал, с улыбкой говорил, что Юра его друг и отличный спортсмен, и они общаются. Что он крутой, и Ибо крутой. Говорил спокойно, а глаза, зараза, блестели. Юра перемотал и посмотрел ещё раз. Точно, огоньками горят красиво. Дядь Яша так на него смотрит, когда он всю программу откатывает без сучка и задоринки. Дальше в видео ставили рисованных львенка и белого тигренка в узнаваемой форме сборных. С ебаными сердечками.
Блядь, подумал Юра. Ибо по любому все это видел! И ничего не рассказал. Мог бы и кинуть напоржать. Но не кинул. Но почему? Сам бесится от всего этого и не хочет чтобы Юра тоже, например.
В воздухе повисло что-то важное. Что-то почти осязаемое, но пока не потрогать. Он откинулся на подушку, полежал, смотря в одну точку. Перед глазами мелькал Ибо, который смотрел только на него. Смотрел, улыбался и говорил, какой Юра классный.
Утром Юру ждала суета. Чжан Тинг, вовремя разбудившая звонком, экспресс-завтрак и дорога, как он понял, до студии. В машине он закемарил сразу же, как отъехали от гостиницы — дала о себе знать пятичасовая разница во времени. Очнувшись на светофоре, сразу же полез за телефоном, но, вспомнив, как херово здесь с интернетом без китайской симки, вслух матюгнулся.
— Извините, сим-карту с мобильным интернетом оформим на вас к вечеру, — сказала Чжан Тинг. — Раз вы проснулись… Смотрели когда-нибудь азиатские шоу?
Юра пожал плечами. Азиатское шоу, где главную роль играл Кацудон, он смотрел каждый день. Ещё были видео с японскими котиками. Но это же не считается. Чжан Тинг кивнула. Рассказала, что от него требуется импровизация, естественность и инглиш. Придется выполнять несложные задания и отвечать на простые вопросы. И если моменты будут удачными, то их оставят и пришлют посмотреть, что получилось до выхода самого шоу.
— Выходите из автомобиля, только когда вам откроют дверь, проходите прямо к выходу, максимально не обращая на собравшихся людей внимания, — сказала Чжан Тинг, когда автомобиль завернул к высокому зданию. — Вам нужна маска для лица?
На это Юра мотнул головой, но сам полез в карман за темными очками. Натянет ещё капюшон, и пусть фоткают сколько влезет. Кто там вечно караулит у входов-выходов.
Но к такому пиздецу он не был готов. Во-первых, людей было так много, что Юра не увидел, где они вообще кончаются. Во-вторых, они кричали так, что как только дверь автомобиля открылась, у Юры заложило уши. “Юлэа” и “Юула” оглушило, так, что захотелось со всей дури проорать, чтобы все заткнулись. Даже Ангелы вели себя куда тише.
В-третьих, что это нахер за билборды? Огромные изображения львенка с тигренком, установленные на металлических каркасах, как огромные паруса, красовались у самого входа. Ебаныйврот, с сердечками!
— Пиздец, сумасшедший дом, — бубнил под нос Юра, добираясь до входа в здание. Он задрал голову повыше — вот, нахуй, фотайте.
Когда уже рубежи были взяты, он спросил у Чжан Тинг:
— И всегда так?
— По разному, — ответила та. — Сегодня это из-за вас.
Юра закатил глаза. И снова жутко зачесалось написать Ибо. Рассказать обо всем, спросить, у тебя так же уши закладывает, да? Спросить, и чего ты раньше обо всем не рассказывал? Сказать, ну и дурак, мог бы со мной поделиться, друг я тебе или кто. Но интернета не было, а бегущая по коридорам Чжан Тинг была.
А потом Юра почувствовал себя кроссовкой на китайском конвейерном производстве. Его переодели в белый спортивный костюм, наложили съемочный грим, прицепили микрофон, рассказали, как ориентироваться во время съемки по разноцветным полоскам на полу, правильно поворачиваться к камере и не мешать многочисленному стаффу. Юра на всё кивал, не лутцы же прыгать, разберется. Как оказалось, кроме него в программе ещё будут задействованы другие не китайские олимпийцы. Он успел только коротко познакомиться с веселым чешским сноубордистом и с худенькой конькобежкой из Кореи, когда увидел Ибо — стоял уровнем ниже с группой китайских ребят, одетых в форму своей олимпийской сборной и кивал, пока мужик в черной бейсболке давал какие-то указания. Ну ахуеть сюрприз, Юра присвистнул. Значит, Ибо будет сниматься вместе с ним?
— У вас есть несколько минут пообщаться без камер, — сказала Чжан Тинг, когда заметила, куда он смотрит. — На камерах надо быть аккуратным. Для Ван Ибо. Чрезмерное ваше с ним взаимодействие может негативно сказаться на его репутации как китайского спортсмена. Понимаете, в других странах может быть даже не обратили внимание, а в Китае…
— Ясно-понятно, но как же ваши эти фанаты и их фантазии? — перебил охуевший Юра. Как под камеры, так не общайся, а как в Вейбо, так всё можно? — Разве это хорошо сказывается на репутации?
— О, так вы успели познакомиться, — замялась Чжан Тинг. — Понимаете, любая фанатская деятельность работает на популярность их, гм, объекта. Но с учетом того, что объект в реальности имеет положительный образ.
Юра очень постарался не закатывать глаза. Ничего нового, чо.
“Я от образа феечки до сих пор отмыться не могу”, — думал он, направляясь к Ибо. Странная эта Чжан Тинг. Как можно общаться без камер в толпе людей, если эта приблуда есть в каждом утюге, не говоря о телефонах?
“Ладно, сыграем для всех принца-ледышку. Чай не привыкать”.
Он пожалел, что не включил камеру на телефоне — большие глаза Ибо надо было всё-таки увековечить для потомков.
— Юра? — спросил тот, как-то жадно вглядываясь. Не верил, что ли?
А кто ещё, подумал Юра, хмуро сверкая глазами, что совсем не мешало рассматривать Ибо в ответ. Не, Ибо не виновен во всей этой хуете на Вейбо. Но друзья же о таком должны друг другу рассказывать, да?
— Хуюра, — зло хмыкнул в ответ, прикидывая, как можно без зрителей поиграть в пинг-понг словами. Показать глазами, мол, пройдемся? А куда? И стоило ему появиться, как окружающие разом притихли.
“Чо, у всех картинки с Вейбо перед глазами”, — зыркнул на особенно заинтересованных. Охренели совсем. Но его маневр неожиданно вызвал только новые вихри любопытства, которые Ибо вроде бы даже не заметил. Юра как-то разом превратился в лужу, пока китаец впитывал его как губка. Губка Бо. Потом быстро зашпарил на инлише:
— Ты когда прилетел? А на сколько? — Ибо жег, всем видом жег, чертов китаец. — А колено твое как? И… всё в порядке?
Юра показательно завел зрачки под лоб. Затуши ты уже зажигалки, люди вон как смотрят, того и гляди, снимать начнут. Китаец, похоже, заметил, что они в центре внимания — обвел своих убивательным взглядом, от которого даже Юру передернуло. Таким на него смотрел только дядя Яша, когда обнаружил рассекающим по льду с температурой после того, как отправил его домой.
— Да нормально, вот сниматься прилетел, но не знал, что… с китайскими чемпионами буду, — сказал Юра, по-дурацки качнулся на ногах, пытаясь сохранить нейтралитет лица “просто мимо шел, а тут знакомый”. Но это мало помогало — уровнем выше уже стояли несколько девушек с телефонами. — И это… давай позже.
Внутри опять расплавилась злость. Пришлось прикусить щеку, потому что хотелось схватить китайца за рукав, оттащить в сторону и спросить, какого хрена и как мне сейчас быть, чтобы тебя никак наша хуюжба не задела.
Ибо о чем-то догадался, сжал губы, разжал, кивнул, побегал по пространству глазами выше голов. Посмотрел на экран телефона, а потом на Юру. И снова на экран.
— Нет у меня интернета, — произнес одними губами Юра.
Мужик в черной кепке что-то громко крикнул. Ибо раздраженно на него посмотрел:
— Уже начинают, — сказал. — Да. Давай позже. И ни о чем не переживай.
И заправской уверенной походкой исчез с другими китайцами за раздвижной дверью.
А скоро Юру туда же увела и Чжан Тинг. Прошагав несколько коридоров, он наконец оказался в самой съемочной студии. Освещенная площадка с огромными экранами сменялась затемненным нижним залом. По бокам и внизу яркими пятнами виднелись пластиковые сидения, по потолку скользили питоны — краны с одноглазой головой-камерой. Несколько камер катались на подвижных платформах по полу, как на роллер-лыжах. Ещё два оператора настраивали закрепленные на них экзоскелеты в ожидании съемок.
Юра вспомнил, как на Гран-При Канады, после того, как местные журналисты отсняли его тренировку, Попович выпросил у них подобный операторский жилет, чтобы сделать с камерой круг по льду, радостно гогоча о том, что из его живота растет третья рука.
Мужик в кепке как раз загородил закрепленную на операторе камеру, что-то тому объясняя. И оператор, как и Ибо до этого, недовольно на того смотрел.
Затем Кепка подлетел к ним, что-то затараторил Чжан Тинг. Та ответила тем же быстрым и негодующим, указав рукой на Юру.
Ага, местный мозговыноситель теперь добрался и до них. Посмотрим, кто кого.
— Директор Сун говорит, что во время выбора команды тебе лучше оказаться вместе с Ван Ибо, — сказала Чжан Тинг.
— Зачем? — дернул плечом Юра. Можно было не спрашивать — красивые кадры рядом, можно попилить на сотни видосов. Вот же сукины дети. Или Ибо этого и надо? Как реклама вида спорта. Приходите в фигурку — здесь лучшие азиаты.
— Для китайских зрителей вы друзья. И пусть в спорте вы соперники, будет интереснее, как вы, наоборот, помогаете друг другу, как члены одной команды.
Юра хмыкнул, взглянув на Чжан Тинг исподлобья, на что та отреагировала нейтральной улыбкой. Нда, таким китайцев не проймешь.
Нет, он на такое не подписывался, по��тому нехуй здесь показуху раз��одить. Пусть без него разводят. Последнее царапнуло коленкой по асфальту. Если рядом с Ибо в этом их Вейбо будет не он, а какая-нибудь красивая китаянка или, что ещё хуже, какой-нибудь модный китаец? Будет смотреть через экран, улыбаясь. “Как тебе такое, Юра Маск?”
Стремно было бы такое.
Ладно, если бы по-настоящему. Как Ибо улыбался на тех фотографиях в Вейбо. Смотрел на него и улыбался так, будто Юра ему хрень очередную проспорил.
Если бы по-настоящему, Юра бы сказал: молодец. Так держать. Только не будь как Никифоров с Кацудоном. А Ибо и не будет. Вот звонить и болтать на своем чайниз-инглише будет, кидать всратые мемы, селфи и голосовухи будет.
В горле засвербило. Накатила досада, что нельзя взять и, как в детстве, взять за руку, утащить в свою песочницу. Сказать — ты мне нужен. Очень нужен, пиздец как. Пойдешь со мной? Жаль, что сделать так нельзя.
Зато можно не идти на поводу. Никакой команды с Ибо. Только соперники, только хардкор.
Хардкор начался уже через минуту — пространство заполнили разного вида китайцы: стафф, китайские спортсмены в красном, ребята с подведенными глазами в темном и остальная разноцветная масса, к которой Юра мысленно причислил и себя.
Все говорили громко и живо, ничуть не стесняясь друг друга, а он всё искал взглядом Ибо. Не нашел. Засунул руки в олимпийку. Высунул. Потащил палец в рот, укусил за заусенец. Одернул себя. Волнуется он, что ли, из-за такой мелочи?
Тем временем всех спортсменов построили как в школе на линейку. Камерой вдоль провели раз, другой. Перемешали всех, как хлопья с молоком, и один ведущий спрашивал на своем, второй переворачивал на английский.
— Каким представителем животного мира вы видите себя? — задал очередной “оригинальный” вопрос ведущий. Все сразу посмотрели на Юру. Ждут тигра, не иначе. В ответ он тяжело обвел взглядом присутствующих. “Авада Кедавра". Ибо так и не появился.
— Тигр. На льду я представляю себя тигром, который порвет любых соперников.
В ответ заукали — понравилось. Кто-то даже зарычал в ответ. Но Юра был закален азиатскими вариантами шоу ещё с Японии, так что сделал над собой усилие и не фыркнул. Только задрал подбородок выше.
Вопросы кончались, но началась игра-угадайка. На экран вывели разные картинки, по которым нужно было определить, какие хобби есть у присутствующих спортсменов, написав ответ на белой пластиковой дощечке. Себя он нашел сразу — картинка с огромной белой кошкой была расположена прямо по центру. Но скейта Ибо среди картинок не было.
Блядь, подумал Юра. Тааак, это что получается, Ибо решил вообще свалить со съемок? Из-за него? Да нет же, вот он, этот чертов китаец под своей счастливой восьмеркой-бесконечностью.
Быстро зачеркал первое, что пришло в голову и отложил маркер. Пока остальные были заняты "важными" размышлениями, Юра принялся шарить глазами по всей студии в поисках Ибо так, как пассажиры ищут стюардессу, когда самолет мотает турбулентностью, чтобы по ее спокойному выражению лица убедиться — всё в порядке. Выдохнул, по команде показал дощечку, пропуская все последующи�� обсуждения. Увидел только, что напротив Ибо высветилась рисованная картинка с нарисованной танцующей свинкой. Так лев или свинка? Вы там разберитесь уже…
Попросили пересесть на пластиковые сидения по краям студии, пом��няли прожекторы с ярких верхних на темные боковые. Зазвучал бодрый трэк, из темноты высыпались знакомые ребята с подведенными глазами. И Ибо в самом центре. Наконец-то! Широкая темная рубашка была расстегнута и светила майку, а под ней виднелись ебаные темные кружки. Юра, куда ты смотришь, кричал он про себя. Нафиг кружки! Посмотри, как китаец танцует, складывается ногами, протирает пол коленями. Ебать, и не только коленями. Вдох и медленный выдох. Ибо танцевал так, словно был включен в розетку. Дышать ровно было пиздец трудно. Пришлось отвлекать себя мыслями о том, что за такую нагрузку на спину его бы на льду раскатали. А в Китае, надо же, всё можно. И рукой плавно вниз к ширинке тоже. Вильнуть всем телом аккурат на подъехавшую камеру. Тоже так попробую, думал Юра. Добавлю это движение к произвольной, будет этот китаец знать. И майку надену.
Закончив танцевать, ребята разбежались кто куда, а Ибо встал так близко, что можно было увидеть капельки пота и легкий пушок на его шее. Во рту стало солоно, как если бы провел по этим тонким волоскам языком… Приплыли, лодочник.
— Ты какую команду выберешь? — спросил его чех-сноубордист, выводя Юру из странного состояния отрешенности, когда всё сошлось в одну линию — линию плеч гребанного китайца.
— Команду? — рефлекторно переспросил, хотя не нужно было понимать китайский, чтобы разобраться, что происходит. Ведущий по очереди предлагал участникам присоединиться к одной из двух команд. А если его спросят раньше Ибо, то большая вероятность, что его — Юра мысленно поперхнулся, — китаец выберет команду с ним.
Юра ловко обогнул по духе несколько человек, встал с самого края. Одна из камер его маневр засекла, проследив движение наведенным объективом, и он демонстративно в него ухмыльнулся.
"Ибо, Ибо", — посреди сплошного китайского прозвучало так, будто кто-то пнул по колесу наехавшую на газон легковушку, а ты забыл закрыть на ночь окно. Внезапно и очень громко. Юра скосил глаза. Ведущий говорил с Ибо, улыбался, шутил. Ибо тоже улыбался, но глазами и уголками губ. Здесь он был другим. Совсем серьезным. Не таким, каким Юра привык видеть. От такого китайца внутри шалело от гордости и радости. Видите, какой, да? Крутой, клевый. Мой. Неважно как мой: друг, соперник, хах. Чувак, которому кидаешь самую странную картинку, потому что смешная же. Главное, мой. Хочется этого, аж колется внутри.
Ибо что-то сказал, потом повернулся в сторону Юры и — блядь! — кивнул ему головой, прежде чем выбрать команду справа.
— А какую команду выберет Юрий Плисецкий? — брякнуло громом.
Юра шагнул влево, поймав на себе внимательный взгляд Ибо. В ответ скривил улыбку и спрятался за волосами, когда остальные загудели. Ведущий громко затараторил на китайском, переводчик за ним не успевал, видимо, сокращая фразы. Юра расслышал что-то про увлекательную битву двух ярых соперников и друзей. Забегали работники съемочной площадки, пол и "стены" задвигались, меняя экраны-декорации. Команда Ибо скрылась за ним, оставляя Юру со своей по другую сторону.
В его команде оказались три китайца, чех, которому выпало выбирать последнему, и тот выбрал команду Юры, и кореянка — с ней успел переброситься парой слов и узнать, что зовут её Ким Мин-Цзи.
— Времени мало, а первый этап соревнования — танец, сказал оставшийся с ними переводчик.
— Чо? — не понял Юра. — Как это танец?
Кажется, он крупно лоханулся, выбрав команду без Ибо.
— Они еще нас могли заставить, — вставил с ржачем чех.
— Обе команды должны представить танец уже через час. Есть два варианта — вы разучиваете готовый с нашим хореографом, либо репетируете самостоятельно.
— И кто из вас умеет танцевать? — спросил Юра на инглише, обращаясь к команде.
Один из китайцев вышел вперед, сделал несколько быстрых движений ногами и переплетая их, упал на пол, закрутился на вытянутых руках вокруг своей оси. Круто, сложно, но надо командой. Но только с би-боем кашу не сваришь.
— Я могу модерн. Немного, — сказала Ким Мин-Цзи на инглише.
Это было уже интересно. Элементы модерна знал и он сам, спасибо Барановской.
Чех, который успел представиться Эстером, замахал головой. Оставшиеся китайцы тоже развели руками.
Юра яростно затыкал в телефоне, в поисках нужного трека.
— Может попробуем под это? — спросил он, включая Бруно Марса. Запоминающаяся мелодия, которая стояла на будильнике Ибо. Ким Мин-Цзи, внимательно послушав, закивала.
— Чувственно, — сказала она. — Но это может помочь в импровизации.
Юра закусил губу — времени на придумывание полноценного танца им не дали, поэтому, может, точно стоит сделать ставку на экспромт.
После недолгого обсуждения решили, что лучше выступить втроем. Парная импровизация с нарастанием напряжения и би-бой, олицетворяющий бурю чувств в конце. Только музыка для него была неподходящей. Юра на пальцах объяснил Лю Хао (как выяснилось, того звали так, и он был велогонщиком), с какого момента его виражи на полу будут нужны. Ожидал отрицательной реакции, но тот согласился. Остальные члены команды закатают их пару в красную ленту, и это будет как бы процветающая жизнь в скором коммунистическом будущем.
Ким Мин-Цзи оказалась гибкой и подвижной. И была не против экспериментов и прикосновений. Последние Юра и сам мог переносить только от самых близких. Та тоже смущалась, но с решимостью тех, кто с самого детства в спорте, продолжала. Так что Юра сразу проникся к ней уважением. Вместе придумали, как изобразить знакомство и нарастающую страсть. Он показывал, Ким Мин-Цзи повторяла, следом предлагала сама. Комбинации были простые и позволяли добавить к каждой свои варианты движений, через которые можно было выплеснуть всю энергию. После второго повтора заново тесный контакт вроде больше никого не смущал.
Вообще ничего не смущало. От одной мысли, что эту, пусть и сырую, композицию увидит Ибо, перло так, что Ким Мин-Цзи это заметила.
— У тебя так глаза сейчас горят, что ты действительно похож на тигра.
— А ты… — Юра пытался подобраться годные слова на инглише, — танцуешь так, будто всю жизнь этим и занималась.
— С детства танцую, мне это нравится, — ответила она.
Юра мотнул понятливо головой. И Ибо не одним фигурным катанием дышит. "Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота". Вывозит китаец, справляется. Фельцман Юру под первой же яблоней бы прикопал, если бы он был таким же масштабным, а не горел одной фигуркой.
Лю Хао появлялся в самом конце, ставя точку их "страсти", а остальные члены команды поднимали с пола широкую полосу красной ткани — нашлась среди реквизита, — и оборачивали их с Ким Мин-Цзи.
После третьей репетиции появился стафф с предложением надеть более подходящую для выступления одежду. Потом вся команда еще с полчаса сидела в небольшой комнатке с перекусом. Данный им час затянулся еще на два — решались какие-то технические вопросы, и Юра умирал от нетерпения. Хотелось уже увидеть Ибо и показать ему танец. Что-то вроде: "смотри, я тоже умею".
"Я тоже умею, тоже могу" внутри пересекалось с чем-то другим. Могу быть с тобой, я достоин.
Я справлюсь.
Не с танцем — с этой дружбой. Он обязательно справится с тем, как пересыхает враз горло при взгляде на Ибо, треплющего во время видеозвонка свои волосы, ведущего широкой ладонью по шее, когда забыл нужное слово на английском. С тем, как жарятся уши, когда китаец спрашивает: "Как твой день?", и голос его при этом смягчается.
— Может ещё раз попробуем, раз все равно ждём? — предложила Ким Мин-Цзи то, что просилось уже само.
— Этот перфоманс будет бомба, — сказал кто-то из команды.
Юра хмыкнул — такая бомба ему нравится.
Когда все уже окончательно устали от репетиций и ожидания, влетел знакомый шумный мужик в кепке (про себя его Юра окрестил директором "Сун-вынул"). Следом за ним оператор с закрепленной на себе камерой.
Директор Сун-вынул через переводчика попросил их теперь ему показать, что получилось.
— Им нужно определить, с какого ракурса вас лучше снимать, чтобы сделать это за минимальное количество дублей. А ещё это же дневное шоу, нужен танец в рамках приличий. У них уже трек вызывает вопросы, — пояснил переводчик.
Не вопрос, повел плечами Юра, включая Бруно Марса погромче. Раз, два, три, четыре…
— Саебис — сказал Сун-вынул, когда музыка закончилась.
Юра подумал, что его уже прет, когда среди китайского послышалось родное.
— Саебис, — повторил Сын-вынул, продолжая что-то говорить на быстро-китайском.
— Отлично, — сказал переводчик. — То есть это русское — саебис.
— Заебись, — исправил Юра, добавил на английском: — Да, это вроде замечательно, здорово.
Чех громко хмыкнул. Юра быстро показал взглядом, чтобы тот не палил контору.
Переодеться им предложили в белые шелковые костюмы, напоминающие буржуйские пижамы, только Лю Хао выдали красный вариант. Выходить на публику босым было непривычно — коньки уже давно стали продолжением ног. В ожидании Юра стоял цаплей на одной ноге словно в пассе, грея левую ступню об правую лодыжку. И тут он вспомнил про колено, которое по-хорошему не надо было тревожить. Задернул вверх широкую белую штанину, проверил охреневшие от сегодняшней нагрузки полоски тейпа.
— Колено? — спросила Ким Мин-Цзи. — Ты что, с травмой? А зачем танцевать согласился?
— Растяжение, зажило уже. Почти, — буркнул, опустил штанину.
Ерунда. Все движения несложные, мышцы разогрел.
И повели через пластиковые панели в другую, более просторную студию. Ребята из другой команды сидели на мини диванчиках напротив, но для Юры все они мутнели, как в хреновой фокусировке. Кроме Ибо.
Тот моргнул, а как будто что-то сказал вслух. Юре даже показалось, что услышал: "Зачем босиком? Мог бы и шлепки какие надеть. Китайские". Юра подмигнул в ответ, и уголки рта напротив поползли вверх. Натянул тетиву поразить демонов.
Свет погас, и Юра сообразил, что он не один. Нашел глазом обозначенный полосками центр и границы "сцены", протянул руку Ким Мин-Цзи. Мелодия все-таки была что надо — простая, попсовая, но выражающая чувства, без проблем мимикрировала под их желание забыть о гравитации. Легкие прыжки сменялись легкими касаниями себя, друг друга. Юра старался не потерять их линию танца, на ходу додумывал, каким акцентом закончить каждый сгиб и выгиб, чтобы не мешать партнерше.
А потом он совершил ошибку.
Но сначала была поддержка с переходом в волну. Слишком близко с Ким Мин-Цзи. Так слишком, что он непроизвольно мазнул взглядом по Ибо.
Ебаный мимолетный взгляд. Ибо пылал ушами, светил исподлобья в таком напряжении, словно в ожидании оценки выступления. Юра дернулся, сбился с ритма. И что это за нахер было? Посмотрел ещё, едва касаясь пальцами по корпусу партнерши. Теперь Ибо СМОТРЕЛ. Создавал межзвездный портал глазами в районе юриного солнечного сплетения. Да разве так смотрят вообще? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — остановка сердца.
Под конец пришлось совсем прикрыть глаза, но эмоции рвались бешеными бизонами — топтали порог его отстраненности и границ. Ким Мин-Цзи повела вверх бровями, когда с последним аккордом он переплел пальцы их рук.
Этого никто не видел — их закутали в красную ткань.
Юра быстро шел за стаффом словно в пьяном угаре, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Сразу после их перфоманса их повели переодеться, и было даже жаль — ткань, похожая на шелк, холодила кожу и немного охлаждала мысли.
Зачем он так, думал Юра. Знал же, что снимают. Но разве можно сделать это нарочно?
Этим вейбоящерам вообще одной улыбки достаточно, а здесь сожрут, размножат, зафигачат гифок.
Он посмотрел на свое отражение в зеркало. Щеки как в румяна милкины ебанулся. Жалко, что нельзя заглянуть в себя. На винтики-шпунтики, которые засбоили, завертелись быстрее, чем надо. Задержал дыхание, встряхнул волосами, нахмурил брови. Он танцевал и нужны были эти эмоции, но всё. Сверкнул в зеркало глазами — да, лучше. Защитное стекло на экран телефона.
— Клево получилось, — сказала Ким Мин-Цзи. — Но конец… неожиданный. Но я прониклась.
— Угу, — ответил Юра.
— Ты молодец. Артистизм сумасшедший, — добавила она.
Юра сделал вид, что першит в горле и кивнул.
Они сидели рядом на маленьких кресло-диванах уже в привычной форме. Стафф настраивал свет, а Юра вздрогнул — Ибо появился ниоткуда, в китайском халате с широкими рукавами и несколько минут что-то говорил стаффу, указывая на прожекторы и камеру.
Он и здесь соображает, закусил губу Юра. От скуки на все руки. Да, блядь, руки. Ибо говорил, вскользь ездил широкими ладонями по блестящей ткани. Юра засмотрелся. В парное с такими руками идти — благодать. Поддержки юзать. И на тонкой талии бы такие зашибись смотрелись. На его собственной, например. Юра потер колени, постучал кроссовком. Нос потер. Нос на месте. Для примера же привел, чего дрыгаться.
А дрыгаться было чего. Позже. Когда заиграла китайская народная мелодия, и стройными рядами вышла команда — в похожих блестящих темных халатах, в которых отражались мелькающие огни. От кусочного космоса рябило в глазах, и Юра не мог рассмотреть среди них Ибо. Что-то блеснуло у всех в руках. Какой-то длинный меч. Катана, по которой прошелся милкин выпрямитель для волос. И Ибо сразу нашелся — по плавным, отточенным движениям. По восходящей дуге меча, с которым Ибо вел свой диалог, направляя на невидимых врагов. Или видимых. Соперники они или кто. Рисовал в воздухе иероглифы, змеей перетекал под музыку. Красиво. Как оголенный провод, который искрится маленькой молнией: завораживает, а трогать нельзя. Можно только смотреть, пожирать глазами. Запоминать все мелькающие мозговыносящие картинки.
Вдруг меч подпрыгнул, перелетел в другую руку. Юра от неожиданности хекнул. Ибо поймал его взгляд, сопроводил довольной ухмылкой.
Мушкетер, блядь. Один за всех. Если у Юры цель — покорить свой Олимп, то этот китаец взбирается на гору, чтобы с высоты увидеть, какие ещё есть вершины. Но ничего, Юрина вершина выше некуда. Стать в фигурке лучше всех. И посмотрим, как этот китаец доберется до него. Давай.
Губа снова заползла на зубы, аж пришлось прикусить. Вторая команда закончила танец стройной линией. Стоявший в середине Ибо придерживал рукой развязавшийся от сильной прыти пояс, и можно было увидеть тонкую полоску светлой кожи. Китаец быстро дышал, а Юра не мог оторвать глаза от вздымающейся груди. Наклонил голову, спрятался за волосами. Порнуха, блядь. Тот сразу засек, повел бровями, блеснул темнотой, ныряя взглядом. Глубоко, серьезно — попробуй расшифруй. И Юра кивнул — безотчетно. Ибо дернул головой в ответ, делая странное движение ртом, словно что-то хотел сказать, но вместо этого прошелся по губам языком.
Юра почувствовал, как в секунду намокают ладони. Самое время схватить оголенный провод.
Команда китайцев куда-то испарилась — видимо, тоже повели переодеваться. А Юра впал в уныние. Хотелось смотреть на такого китайца ещё. Потому что такого Ибо он прежде не знал. Догадывался, когда смотрел ахуенные прокаты, автоматом шинкуя выступление на компонент��. А сейчас, увидев цельный вариант, заметил другое. Ибо это всё нравится. Быть на сцене, поджигать всё вокруг, как будто делает что-то очень серьезное. Исключительно важное — не только для себя, но и для других. Как будто каждый раз катает произвольную на мировых.
Про себя Юра начал подбирать слова, как можно будет об этом спросить. После того, как они разберутся с хуюжбой и недоговорками. Мысли сбивались в кучу.
Неужели так можно, чтобы столько нравилось? А что же нравится ему, кроме льда? Серьезно, что?
Слышать дедушкино "Юрочка", скупую похвалу Фельцмана. Смотреть на пиксельную улыбку Ибо, болтая на винегрете из языков и картинок. Морозить задницу на парапете, как типичный питерский подросток — дышать повисшими в воздухе каплями, смотреть на воду и думать, как та уносит тела всех бесящих. Уничтожать взглядом морозящих рядом что-то там про фею. Танцевать в наушниках в пустом зале с зеркалами и трубами по стенам, смотреть на свое отражение, представляя, что не один. Что рядом, очень близко есть кто-то близкий. Кто-то, кому можно дать второй наушник. Слушать музыку, воображая, что танцуешь с кем-то вместе, отбиваешь телом биты, касаться, ощущать под ладонью чужое сердце, как свое — эй, смотри, мы живы! Нам охуенно здорово, а этот зал — наш остров, на котором мы только вдвоем.
Вдруг началась суета, внутри всё ухнуло, когда он увидел Ибо. Как в холодную воду окунули. Юра смотрел на китайца так, как смотрел на те отражения в зеркалах танцевального зала. Получается, он всё время представлял себе Ибо? Чо, серьезно? К памяти добавилась полоса светлой кожи. Ладони закололо.
Ведущие снова что-то затараторили, кажется, какие-то незримые судьи выставили им оценки. Ха, ровно, что ли? И тут победила крепкая мужская — хах! — дружба.
Юра аж заржал — не смог утерпеть. Хотелось всё выплеснуть, но куда? Он закрыл руками рот, а смех вырывался приступами кашля. В студии даже стало тише, так как все, вместе оператором, смотрели на него, а Ибо спрашивал глазами — мол, чего? В ответ покачал головой, показал ОК пальцами.
Снова все зашевелились — закончились съемки в этой локации, и их снова повели на другую. Огромное яркое помещение, посреди которого было установлено такое цветастое пластиковое оборудование, напоминавшее огромный лабиринт. Похожие Юра встречал в развлекательных парках, куда их юниорами возили спонсоры после соревнований.
Они стояли толпой, а картинки на экране объясняли задание на двух языках. Сначала нужно выбить мячом слово, которое соперники должны будут кубиками написать, а каждый кубик надо добыть, пройдя своеобразную полосу препятствий.
Юра встал боком, чтобы никто не мешал лицезреть знакомый профиль. А посмотреть было на что: всякий раз, когда Ибо активно кивал ведущему, челка падала ему на глаза, и тот выставлял на обозрение шею, закидывая волосы назад. Но на Ибо смотрел не только он. Девушки-азиатки со второй команды пялились на его китайца, разве что рты не открыв.
Клевый, да, ухмылялся Юра. Смотрите. И не жалко совсем. Одна из девушек потянула Ибо за рукав, на что-то тому показывая, прижалась ближе. Ибо не отстранился, а с улыбкой ей ответил, почти касаясь щекой, и та, кажется, порозовела. Как-то разом подурнело, словно пережрал фастфуда после тренировки. Ледяной принц, говорите, кекнул Юра, отводя взгляд.
Спрятал руки в олимпийку, нащупал телефон, выудил и хотел быстро зафигачить селфи на фоне всё того же затылка. Но затылок был с глазами.
— Давай с нами, — сказал Ибо, разворачиваясь к Юре и поднимая два пальца к лицу.
Рядом стоящие, как по команде, посмотрели в камеру, состроив селфи-рожи. Юра тоже поднял два пальца, в камере они пересеклись с пальцами Ибо. Вроде как дотронулся. Хотя можно же по-настоящему — закинуть руку на плечо как бро, а другую поднять повыше, сделать зайчики-антенки. Чтобы типичными "два дебила — это сила". Но давать лишний повод под прицелам камер — нафиг надо. Сделаю так позже, решил Юра. Фотография получилась приличной, хоть в инсту кидай. Может быть, Милке кинет. Потом.
А сейчас надо было покорять вершины телевизионного китайского спорта. Задание было детсадовским — мягким молоточком попасть в яркие вертушки, которые должны повернуться к лесу задом, к ним передом и показать слово. Но те крутились, как картинки в игровых автоматах, поворачиваясь темной стороной.
Кто-то рядом пошутил: нас тащат на темную сторону.
Наконец командам выпали слова "speed" и "brave".
— По-русски эти слова на одну букву, — внезапно захотелось выпендриться Юре, — скорость и смелость.
— А что бы вы могли охарактеризовать этими словами? — спросил через переводчика ведущий.
Юра ощерился от неожиданности. Чего от него ждут? Банального ответа? Бла-бла-бла, такие должны быть спортсмены?
— Тупые вопросы. Придумывают их быстро, но чтобы задать, нужна смелость, — хватило английского сказать показушно бодро. Ещё и холода во взгляд накинул, аж самому понравилось.
Ведущий изобразил какую-то неясную эмоцию вроде удивления и тут же задал аналогичный вопрос Ван Ибо.
— Скорость принимать собственные ошибки и смелость идти дальше, — с небольшой паузой ответил тот, зачем-то бросая долгий взгляд на Юру. Такой долгий, что мелко заколотило под грудной клеткой, неприятно свернувшись в животе наглухо застывшим желе.
"Ты мне это говоришь, не показалось?" — поднял Юра брови в немом вопросе, пока что-то отвечали другие участники.
Ибо на миг опустил глаза, как если бы хотел сказать ими "да". Да ты издеваешься, выдохнул Юра, задрал голову и сделал вид, что прикидывает, какой высоты потолок. Потому что, если ещё раз посмотреть на китайца, то будет "стоп, снято", моя рука в твоей руке, пошли давай отсюда и рассказывай, что за фокусы. И что за ошибки, разберемся.
Из легкого транса его вывела очередная движуха — теперь надо было на скорость найти кубики с нужными буквами и вместе с ними пробежать через полосу препятствий: вверх по чему-то мягкому, затем проползти по закрытому тоннелю и по пластиковой горочке, похожей на спиральку-макаронину, спуститься вниз. Задание было бы элементарным, если бы не размер кубиков. Они были огромные и держать их было неудобно. Карабкаться и шнырять по туннелю тем более. Но Ибо рванул так быстро, что позволить себя от него отстать — немыслимо, как и дать другим бежать с ним рядом.
Юра не мог оторвать взгляда от мелькающей впереди спины, словно он всего лишь магнитик на Ибо-холодильнике. И какого хрена китаец такой ловкий, думал он. Это ведь на ловкость ему так нравится смотреть, так?
Когда оба нырнули в узкий туннель, пролезть через который можно только ползком на коленях, поплохело в два счета. Красным велосипедным маячком перед глазами светилась задница Ибо. Фантазия возникла не пойми откуда — вот бы вместо дурацкого куба в руках оказалась задняя часть китайца. Хотелось узнать, какая та на ощупь, и лучше попробовать прикоснуться невзначай, не вызывая подозрений на ебанутось. Всё же нет, он конченый дебил, било в голову. Настолько конченый, что даже мысли о собственной ничтожности ни капли не спасали от того, что Юру раз за разом прошибало током до самых костей. Горело всё: щеки, руки и там, внизу. Всё горит, потому что Ибо всё ещё впереди, как Юрин личный факел. Факел — фак оф.
Надо было это дело кончать. Фыркнул. Заканчивать.
Выход из чрева гигантской змеюхи уже светил огромным глазом, и Юра прибавил ходу. И почти уткнулся кубиком в Ибо, потому что тот зачем-то решил притормозить. Оказалось, у того застряла нога между опорным металлическим обручем и клеенчатой основой туннеля. Ибо попытался освободиться, но вместе с ногой освободил и кроссовку, которая бодро отлетела в Юру.
— Погоди, давай свою ногу, — сказал он. Пришлось приподняться, сунуть кубик под пузо и перевернутой черепахой потянуться за обувью. — Сейчас на место сбежавшего определим.
Ибо, забросив свою ношу, развернулся к нему лицом, сел, расставил ноги в стороны.
— Давай я сам, — посмотрел на него и кекнул.
Хуекни мне тут, подумал Юра и молча протянул кроссовку. Что-то говорить и смотреть на место, откуда у Ибо растут ноги, было сродни откровению.
"Да, вы, Юрий — долбоеб? — пропело внутри голосом Никифорова. — Ты ещё в пах к нему лицом уткнись". Да в конце концов, что он там не видел? Подумаешь, вполне приличный член, который не скрывали тонкие спортивки. И что с ним делать? Чисто теоретически.
У Юры тоже всё на месте. На месте, ага. Перевести внимание на собственное хозяйство было ошибкой — оно уже вполне конкретно упиралось в кубик.
"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу", — пылали его щеки, на них можно было смело разогреть остатки какого-нибудь дошика.
— Юр, с тобой всё в порядке? — спросил ебаным бархатом Ибо, сканируя его глазищами. И откуда научился этому "Юр"?
— Пока ты свою кроссовку не потерял, мы отлично изображали муравьев, — глаза выкатились закатным солнцем вниз. Сука, нахрена так смотреть.
— Вообще в порядке? Всё нормально?
Ты нормальный вообще, бросил взгляд топором Юра.
— Давай, ползи уже, — скрипнул зубами, нашелся, что ответить. — Мне же неудобно так.
Ибо угукнул, повернулся к лесу задом и за считанные секунды выбрался наружу. Да он так и без кроссовки мог сделать. Что это вообще было?
Юра тоже поднажал, но совсем не ожидал, что впереди на выходе будет дебильная детская пластиковая горка. С кубиком быстро перегруппироваться не удалось. Он скатился, со всей дури тормозя ногами. Колено сразу дало о себе знать резкой болью.
— Бляяя, — прошипел Юра. Это было неприятно, но после сегодняшнего активного дня совсем неудивительно. Надо было аккуратно встать и незаметно для гребанных камер донести кубик до пункта назначения. Но колено из вредности забыло, как нормально ходить, и пришлось сделать несколько хромоногих шагов. К концу дистанции удалось выровняться, но полоса препятствий на этом не закончилась, и нужно было ещё пройти по качающимся кочкам, наполненным какой-то жидкостью. Ступать прямо по ним не получалось, нога заваливалась на бок, вызывая уже привычные болючие фейерверки.
На финише его встретил нахмуренный Ибо.
"Чего брови насупил? — спросил сердито глазами Юра. — Как будто сам не знаешь, как это бывает".
Заигнорил того, пока соображал, куда девать кубик. Вот, первая буква на месте. Остальные донесет команда. Огляделся, присвистнул. Ему навстречу, огибая препятствия, шел караван из директора Сун-вынул, Чжан Тинг, двух женщин. Замыкали вереницу слишком сосредоточенный Ван Ибо, который что-то объяснял мужчине с большим пластиковым ящиком в руках.
— Ван Ибо сказал, что ты… немного травмировал ногу при спуске, — говорила как-то слишком взволновано Чжан Тинг. — Если это так, то мы прерываем с тобой съемки.
Она обернулась к директору Сун-вынул и как-то чересчур громко заговорила с ним на китайском. Т��т был явно недоволен происходящим, и только когда высокая девушка начала ему что-то показывать на планшете, директор сделал какой-то неопределенный жест рукой.
— И что это было? — дернул подбородком Юра.
— Договор на участие в съемке показали, а также сумму страховки в случае возможной травмы, — уже совершенно спокойно пояснила Чжан Тинг. — Ещё и о международных последствиях напомнили. Ты же не просто гость, а ещё и олимпийский чемпион.
— Но у меня ничего страшного, это…
— Давай ты присядешь на мат и тебя осмотрят, — перебил его Ибо, да ещё и за плечо схватился.
— Да нечего там смотреть, — процедил Юра. Взгляд упал на камеры, а они сейчас совсем рядом. Очень близко.
Но Ибо, кажется, понял, отскочил от него к директору и что-то быстро-быстро зашептал ему в ухо. Тот же отвечал на повторе: "Букэне, букэне".
Юра даже запомнил — вдруг какое ругательство полезное. Будет можно на Ибо: "букэни-ка ты отсюда!".
Но его китаец отступать и не планировал. Вот оно, азиатское упрямство: уууу и прет прямо. Директор Сун-вынул напоследок гаркнул, но Ибо почему-то только лыбу свою растянул. Ахуеть красиво, растяни так ещё. Растяни, в смысле, улыбку.
Кажется, это безнадежно, простонал про себя Юра. Даже в собственной голове теперь нельзя было спрятаться.
— Мы сейчас уйдем. Вдвоем. И с медиком, — крутанулся вокруг него Ибо. — И тебя посмотрят. В медицинском кабинете.
"Мы" чего? Показалось? С хуя ли это "мы", а как же съемки?
Промычал что-то несвязное в ответ, собрал язык в кулак.
— А ты-то чего? Меня есть кому проводить.
Ибо посмотрел на него странным, тяжело поддающимся расшифровке, взглядом. Пиздец, до мурашек. Мила на него похоже смотрела, когда он спрашивал, чего та с тренировки, как ужаленная, убегает — мол, чего такой недогадливый.
Чжан Тинг печатала в телефоне всеми свободными пальцами сразу, пробежавшим по обоим глазами, словно прикидывая. Что-то быстро спросила на китайском у Ибо. Он ответил, выудил откуда-то телефон, поднес камерой к ее. Кажется, отсканил какой-то код.
— Если пойдете по дальнему коридору, то никого не встретите. Юра, мне пойти сейчас с тобой? Или мне подождать тебя… — Чжан Тинг снова что-то спросила у Ибо. Он в ответ кивнул, — …вас, внизу? Из здания вам вдвоем выходить нежелательно, но это и так, думаю, понятно.
— Ээээ, можно и подождать, — ответил Юра. Вдруг у нее какие-нибудь срочные дела. Ещё один долбанутый русский фигурист, например. Хотя пусть попробует найти такого долбанутого. В том, что Юра окончательно шарахнулся головой, он уже не сомневался. И остальными частями тела тоже.
— Пойдем, нужен лед, — потянул за предплечье Ибо. Юре показалось, что Чжан Тинг в этот момент перестала моргать.
И они пошли. Вернее, Ибо повел, а Юра косплеил раненного бойца. Пришлось сделать вид, что совсем ничему не удивился и мысли заняты только коленом.
Но мыслей у Юры вообще не было. Пустая голова склонилась на бок к китайскому плечу. Сердце прыгало на скакалке, Юра превратился в тряпку, а пространство стало мягкой липкой массой — сожми в руке, да катай снежки. Вон как плывет перед глазами, а всего-то почувствовал, как пахнет шея Ибо, как греет чужое тепло. С американских горок вниз летишь, так адреналином не бьет.
Пизда. Пизда тебе, Плисецкий.
И Ибо, как назло, стал идти медленнее.
— Юра, — как-то тихо сказал он, и внутри всё замерло. Если бы этими китайскими губами, да по нему? Блядь, а это откуда нарисовалось?
— Стой, погоди, — остановился, убрал с плеча руку китайца. — Поговорить надо. После льда и всякой медпомощи.
— Поговорить, — повторил Ибо и зачем-то дернул себя за ухо, осмотрелся. И Юра за ним повторил автоматом. Ничего интересного. Широкий коридор, закрытые двери, из-за которых доносились приглушенные звуки.
— Ага. У меня вопросы некоторые возникли. Я залез через гостиничный вайфай в китайский Твиттер. Как его. Вейбо. И кое-чему очень удивился.
— И чему? — замер на месте Ибо, и все стрелки на часах, атомы в воздухе. И все особо одаренные тоже.
"Как будто ты не знаешь чему", — с сердитой ебанцой взглянул на него Юра. Да там всё Вейбо этим "чему" усыпано, если по тегу с их именами пройтись. И вместе, и по отдельности.
— Да что лайков у т��бя по пять миллионов и ком��ентариев тысячи под каждой фоткой, — выдавил на удивление спокойно.
— Ты не это хотел сказать, — ниже обычного ответил Ибо. Его губы сжались в тонкую линию, глаза же, наоборот, широко распахнулись. Что-то плескалось в них, чего Юра раньше и не замечал. Темное, глубокое. Утонуть бы.
Вот и горло разом пересохло, язык прилип к нёбу. По рукам, по спине и, блядь, ниже ползли мурашки, налезая одна на другую. Юра всё хотел что-то сказать, но нужные слова расщепились на буквы.
Ибо хмурился, а потом снова подставил свое плечо, но голову отвернул. Вроде не хочешь говорить, ну и не надо.
— Пойдем уже, — сказал. — Ждут тебя, наверное.
Так и дошли. Юру быстро усадили, посмотрели. Попросили на китайском лечь на кушетку, задрав штанину повыше. Ибо перевел ему на инглиш. Аккуратно сняли липучки-тейпы, легко покрутили колено. Больно. Дали холоднющий пакет и сказали сидеть с ним полчаса.
Ибо остался с ним, хотя Юра был уверен, что тот вернется на съемки. Белый халат куда-то ушел, оставив их сидеть на длинной кушетке. Молчали. Наверное, каждый о своем. Он гонял в голове эти дурацкие гифки с Вейбо.
Взгляды Ибо, случайные касания. Маленькие нарезки их большой жизни. Увидели бы их сейчас эти фанаты вместе, обоссались бы от радости. Или обдрочились. Кто их знает.
Пальцы замерзали держать пакет, и Юра с периодичностью в минуту менял руку. Пока вдруг пакет не перехватил Ибо.
— Может, я подержу?
— Мне удобнее, а тебе наклоняться придется, — быстро отрезал Юра.
И тут Ибо сел прямо перед ним на пол, благо там был ковролин, выставил вверх руку.
— А так удобнее.
Чего удобнее? Добить? Но пакет неотвратимо переполз в его руки. Хорошо всё-таки, что холод и боль. Это остужало и давало надежду, что ничего ниже пояса не подведет.
Минут через двадцать уже болело меньше. Юра согнул-выпрямил ногу, проверяя.
— Лучше? — спросил Ибо, медленно проведя по его икре. Хуючше. Как будто тоже что-то проверяет. Юрину терпелку. Опять запрыгали мурашки, поднимая волосы дыбом теперь на ноге.
— Ага, — сказал вслух, а сам уставился на ногу.
— Оу, — Ибо заметил его взгляд и убрал руку. Поднялся, покачался на пятках рядом, повернулся полубоком и выдал:
— Это, наверное, было неприятно.
— Чего? — не понял Юра, собрался, хмыкнул с улыбкой: — Ну потрогал за ногу, чего такого-то? Хочешь, другую дам?
Ибо зачем-то крутился на месте, переставлял ноги, как Пётя, когда ищет себе место. Потер лоб, нос. И чего ты вообще?
— Я про Вейбо. Да и не только Вейбо. Много где, — сказал в конце концов Ибо.
— Аааа, — протянул Юра. Встряхнул головой, и волосы упали на глаза. — Это тебе может быть…, — сделал паузу в миллион секунд. Неприятно. Значит, и Ибо это всё точно не по приколу. Вот бы он удивился, если бы Юра намекнул, что не против таких раскладов. Не хуеты с Вейбо, а того, что они могли бы быть вместе. По другому. Чтобы можно было дышать в шею. Слизывать с кожи соль, пробовать ее на вкус. По волосам и ниже. — …это тебе может быть неприятно. Китайские же фанаты. Ты поэтому не рассказал, да? Не хотел, чтобы мне было неприятно?
— Это тоже, — Ибо сел рядом, сцепил руки замком.
— Мог бы скинуть ссылки. Поржали бы вместе, — пожал плечами Юра, делая вид, что вообще всё нормально. Пакет уже не был таким холодным, поэтому он отложил его в сторону.
— Поржали… — повторил глухо китаец.
— Посмеялись бы, да, — кивнул Юра. — Там все такие глазастые, словно по-настоящему. Словно мы вместе. Я аж обалдел. Даже с Нифоровым и Кацудоном таких гифок не видел.
— То есть тебе это всё смешно? — Ибо смотрел на него со всей своей китайской серьезностью. Так, что под ложечкой засосало.
Юра скривился. Он что-то не то сказал? Над этим не стоит прикалываться?
— Не потому что смешно, а чтобы… — знание инглиша не позволяло найти такую кучу нужных слов, — … снизить накал. Сделать ситуацию проще. Неважно кто и что выдумывает, мы-то знаем, как на самом деле.
Ибо ничего не ответил. Сидел задумчивым, нахохлившимся филином.
— А мысль, что мы можем быть вместе. Не друзьями… — Ибо принялся шебуршить своей челкой, открывая полностью лоб, — тебя не смешит.
— Не понял. Как это не друзьями? — насупился Юра, засматриваясь на темные ��олосы. — Приятелями? Соперниками? Почему мы не можем дружить?
Ибо встал и что-то пробормотал на китайском, наклонив голову. Юра опустил штанину, поднялся следом.
— Так чего ты имел ввиду? Я же понял. Давай ещё раз.
Ибо резко развернулся к нему, сделал шаг. Близко, аж сердце ухнуло вниз, в животе сжался комок, щеки загорелись красным. Стоп-сигнал, але.
— Такими не друзьями, — тихо, на ухо сказал. — Понимаешь?
Затем отступил, спрятав руки в карманы. Смотрел на него во все свои китайские глаза. Красивые, пиздец.
Юра открыл рот. Закрыл. Снова открыл, чтобы что-то сказать. И как же быть? Что теперь делать? Они здесь же одни, так? Он ещё раз оглянулся. Точно. Сомнения запутались, завязались в узел, а он плыл лишь от одной мысли. От возможности всё воплотить в жизнь. Пусть один раз. А потом врезался с Ибо в противоположную стену. Тот успел выставить руки, ими же обхватил его, прижимая. Юра впечатался в шею Ибо, прошелся по ней языком. Прикусил мочку уха, оттягивая металлический шарик-сережку. Старался не издавать ни звука, чтобы не пропустить чужого недовольного вдоха-выдоха. Но китаец молчал, только дышал заполошнее. Наконец отстранился. Чтобы потом накрыть мягкими губами его. Теперь Юра не слышал ничего. Булькал под водой, тонул отчаянно. Оказалось, что и кислород ему тоже не нужен. Ибо может дышать за него.
— Погоди-погоди, — остановился тот. — Не здесь. Не сейчас.
Захотелось крикнуть: а где?! Где они ещё могут?! Сейчас же его увезут в отель, а ночью уже самолет в Питер.
— Юра, мой тренер едет в Москву через месяц. Я хочу поехать с ним. На целых три недели, — Ибо проговорил это быстро, как и дышал. — Всего месяц, Юр.
"Юр" стучалось пеплом в груди, играло хардкором. Било под ребра.
— Но я всё равно хочу быть друзьями, — прошептал он. — Зеленый тигр, белый лев. Отличная же компания.
— Хорошо, будем ещё и друзьями, — Ибо прогоготал неизвестной науке птицей и обнял. Крепко. До белых вспышек в сердце.
— Вам понравилось в Китае? — спросила Чжан Тинг, когда они уже подъезжали к аэропорту.
— Ага, очень, — усмехнулся во все зубы Юра. — Особенно шоу у вас занимательные. Круче "Поля чудес" будут.
Чжан Тинг понимающе улыбнулась, но потом недовольно посмотрела в окно.
— Этим утром слили в сеть видео с записи шоу, — поджимая губы, сказала она. — Поэтому сейчас лучше надеть маску и капюшон. Смотрите перед собой и под ноги. Мы вас быстро проведем к VIP-входу, он совсем рядом.
Стоило только им открыть двери, как со всех сторон закричали что-то на китайском. Юра поднял голову, но увидел их. Белого тигра и зеленого льва. Огромный баннер с ними висел сбоку. Белый тигр сидел сверху на хмуром зеленом льве и, довольный, кусал того за ухо. Юра улыбнулся, помотал головой и быстро зашагал сквозь бодрые визги.
Похуй, думал он. Главное, что они, друзья. Дружеские друзья, да.
Белый тигр и зеленый лев.

0 notes
Text
Встретимся в год тигра?

— Если Новый год, то как? — спросил Юра.
— Что “как”? — не понял Ибо.
Лежали на кроватях, вымотанные после тренировок. Языком и то ворочать тяжело было. Но за стенами, по стенам шуршало, копошилось и скрипело, натужно и жалостливо дышало в окна, тёрлось о решётки, словно стараясь втиснуться, просочиться. И спать не получалось. Какой тут сон?
А элы спали. Как вообще не видели и не слышали ничего. По жизни в берушах и с масками для сна. Привыкли? Ко всему можно привыкнуть, и даже к тому, что тебя жрут.
Может, и хорошо, что они всё никак? Сколько времени нужно здесь провести, чтобы совсем синхронизироваться, стать частью заражённой Системы? Юра боялся об этом думать, но мысли оказывались вертлявей и тоньше — только отвлёкся, а оно уже думается о том, о чём и смысла нет. Ну потому что выход только один — рвать всех, пробиваться вверх по турнирной таблице и… и дальше будет видно, как они сделают то, за чем эта тупая сИстричка их выдернула сюда.
А ещё казалось, закроешь глаза, и сразу выплывет из желтушного марева и тот тараканище, которого они раскатали на льду. И Зитрел, которого этот тараканище… которого…
— Ну, Новый год, знаешь? — предпринял очередную попытку Юра. Он уже рассказал Ибо о том, как его любят все дворовые кошки, и как Пётя ревнует и придирчиво обнюхивает его после поглажек на стороне ("А я ведь и руки помыл, по локоть помыл!"), Ибо же хмыкнул и рассказал о том, что хотел бы когда-нибудь завести добермана и гулять с ним, но это вряд ли. Юра обозвал его мажором, пропел мысленно “я буду вместо, вместо, вместо неё твоя невеста, честно, честная уо”. Оборвал себя, обругал ещё за одни мысли, которые тоже как тараканы лезли изо всех щелей, и не заколотишь никак, потому что Ибо смотрит на него, Ибо улыбается ему, Ибо — вот он, рядом, только руку протяни. Но это пока. Ибо перевернулся на живот, подполз ближе, заглянул в глаза. Зачем-то. Юра переглотнул. Сам он заморозился на спине, сцепил руки на груди, но теперь там что-то плавилось внутри, отчего бухало в ушах и тянуло повернуться к Ибо, хотя бы потому, что так будет, ну удобней, чем лежать и скашивать взгляд, падая всё время на приоткрытые влажные губы. Тя-же-ло.
— Не, я в курсе, что вы празднуете не только обычный Новый год, но и свой, китайский, — зачастил Юра, пока воздух ещё был, — я спрашивал про тебя. Как ты… что ты обычно… и если, когда, как будешь...
— А ты?
— Ну я сделаю с дедушкой оливье. Это такой винегрет…в смысле, салат. Туда горошек, колбасу, яйцо, майонез, солёный огурец…
— О, я люблю огурцы. Битые.
— Ты говорил, — сказал Юра севшим голосом. Ибо кивнул и просиял. ��ра закатил глаза.
— Ты помнишь.
— Я помню, — буркнул Юра и отвернулся к стене, засопел. И вот чего, спрашивается? Нормально же всё было. Чего теперь в груди жжётся и в глазах щиплет? Нахуй ему это не сдалось. Почему нельзя было в первый раз как-нибудь не так? Охуенный опыт первой… дружбы. Да. Будет о чём теперь рассказывать. Ни у кого такого не было. Неудачный так-то у всех был, а он и здесь впереди планеты. Уделал.
— Юра? — Ибо боднул спину.
— Чего тебе? Спать давай. Завтра никто не отменял.
— Я хотел бы с тобой, — тихо сказал Ибо, и за стеной вжикнуло. Это я, обречённо подумал Юра. Это мне выпустили кишки и вскрыли сердце, размотали его на ленты-километры, обвязали капиллярной нитью и вставили обратно: на, живи, если сможешь. Стиснул зубы. А вот смогу. Вдохнул-выдохнул, обернулся к Ибо, встретил его взгляд, моргнул вместе.
— Что со мной? — спросил с вызовом.
— Встретить Новый год. С тобой, — криво улыбнулся Ибо, — съесть этот твой салат с огурцами, угостить пельменями моей мамы...
— Я бы и твоего рамёна с тофу навернул. У нас говорят: лучший подарок — это сделанный своими руками. И я бы научил тебя лепить пирожки…
— А я бы вымазался в муке…
—... но потом всё убрал.
Замолчали. Вот так. Я знаю тебя, а ты знаешь меня. Проросли в друг друга дикими травами — непослушными, крепкими, острыми. Такое только в перчатках выпалывать, потому что иначе до глубоких ран, сочащихся горячей кровью.
— Конверты, — хрипло сказал Ибо.
— А?
— У нас принято дарить красные конверты с деньгами. Красный цвет — цвет счастья и благополучия. И вообще надо много красного. Это и духов отпугивает. А ещё еда. Надо много еды. Чтобы когда год пришёл, он наелся до отвала, стал добрее и сговорчивее.
— Год?
— Ну чудовище. Миф такой есть про чудовище по имени Год. А, забей, у нас много всяких легенд и чудовищ из них. Мне в детстве попалась красочная книжка про них. Так я месяц, наверное, с включенным светом спал, — нервно хохотнул Ибо. А Юра не стал ему напоминать, что и сейчас они спят со светом, пусть даже это тонкая полоска из ванной. Потому что книжка это одно, а тараканы-переростки — другое. Да и не будь тараканов, всего этого, а только они — и тогда бы Юра не напоминал.
— Я бы наготовил тебе много еды. Чудовища точно бы налопались от пуза. У нас, знаешь, сколько готовят на Новый год? Как на целую армию. Хотя я там не был, но так принято говорить. Почему-то. В общем, много готовят. Нас с дедой всего двое. Ну если не считать Пётю. Но и мы готовим столько, что стол ломится, и потом три дня можно вообще ничего не делать, только есть и есть, есть и есть.
— Всё то же самое, — мягко улыбнулся Ибо. Не из таких уж мы разных систем, услышал Юра, перетёк чуть ближе. В глазах напротив отражалась та самая световая полоска из ванной, что делало их похожими на кошачьи. Подумал, что и шанса на спасение не было. И раз уж гореть, до сгорать дотла.
— Люблю кошек, — сказал и глянул открыто. И голос не дрогнул. Вывел чисто, без запинки. Ибо ухмыльнулся, открыл было рот и закрыл. Понял? Сердце подпрыгнуло где-то в горле. Понял. Забилось отчаянно. Тише, дурное, спалимся. А впрочем, не всё ли уже равно?
Ибо подтянулся, тронул губами губы и выдохнул тихое:
— И я.
Мы обязательно встретимся, Юра упрямо сдвинул брови и ответил на поцелуй. Не в этом году, так в следующем. Не в этой Системе, так в другой. И похуй на всех тараканов.

1 note
·
View note
Text
Саранча

No tocarse nunca
les duele lo mismo
que no poderse separar.
LÍNEAS PARALELAS, Karmelo C. Iribarren
Открыв дверь, они неуютно переглядываются. Слюна с тяжёлым звуком толкается в глотку.
В номере две кровати. Стоят аккуратно заправленные по разным углам.
Ван Ибо плюхается на свою практически с разбега. Кровать мягко пружинит и остаётся невозмутимо стоять на своём месте.
— Крепкая, — невесело оповещает он. — Сейчас таких уже не делают. Зато никаких сюрпризов, не сломается.
Юра морщится, берет разгон побольше и запрыгивает на свою. Пружины жалобно стонут. Он широко раскидывает руки и прислушивается.
— Матрас отличный. Жёсткий.
— Угу, — вяло соглашается Ван Ибо, оглядывая лучший номер из всех, где им довелось побывать, и сквозь зубы: — Наконец, повезло.
Термостат исправно работает и показывает комфортные плюс двадцать три градуса. Постель чистая, хрустящая и пахнет стиральным порошком.
«Фашисты проклятые», — с ненавистью думает Юра. — «Всё-то у них не как у людей».
Со стороны Ван Ибо доносится короткий визг молнии и шелест. Плисецкий приоткрывает один глаз, чтобы убедиться: он действительно распаковывает свои вещи и расставляет какое-то барахло на прикроватной тумбочке. У своей собственной отдельной кровати. Плисецкий подавляет желание тяжело вздохнуть и закрывает глаз обратно.
«Не судьба, наверное», — понимает он. — «Если б ещё раз вместе спать, он бы как-то придумал. Ногу там всунуть, типа случайно. А так — без шансов. Как такое скажешь? А тут вроде можно сказать, если вдруг что, прости, братан, Акелла промахнулся, задремал, ничего такого, недружеского, я не планировал».
— Боже правый, до чего убедительно все это звучит, Плисецкий, — раздаётся в голове голос Никифорова и немедленно посылается к хуям собачьим. Потому что это вообще не его дело, не его тело и не его китаец.
Куда ж без него, вечно лезет в башку, когда не звали. Ладно, сейчас он это хотя про себя, а в тот раз вообще какой-то зашквар вышел. Ван Ибо сказал:
— Хочу у лучших учиться.
А Юра возьми и ляпни:
— Лучший — это Никифоров, хотя бы количественно.
— Хуй там, — возразил Ван Ибо. — Новый мировой рекорд-то у тебя
— Ну, у меня, — согласился Юра, а сам подумал: «надолго ли?».
— Надолго.
— А?
— Рекорд, говорю, твой надолго.
Он тогда так и завис с лицом самой тупой в мире рыбы. Он знает, потому что Ван Ибо отошел в сторону, а Юрка продолжил смотреть перед собой. Из отражения витрины на него таращился какой-то мелкий туповатый пиздюк с глупо приоткрытым ртом. Он стряхнул с себя эту физиономию и спросил:
— Тебе-то откуда знать?
Ван Ибо улыбнулся и сощурился на вездесущее злое солнце.
— Видел мемас «я не договорила»? От тебя такой же вайб был в тот раз. Ты как будто вообще берегов не видишь.
«Да, крыло меня будь здоров», — подумал он тогда. И в общем-то, китаец был прав. Он только начинал входить во вкус.
— Ну, что? — спросил Ибо. — Будешь меня учить?
— Посмотрим, что ты умеешь.
Умел он отборное нихуя, но тренил так, что Юра очень быстро перестал стебаться. Схватывал всё буквально с пол-оборота. Слушал внимательно и вообще не ныл.
— Как ощущения? — поинтересовался Юра не без удовольствия, когда они возвращались в отель.
Он гонял китайца весь день. От души. С ненавистью, как будто тот лично был виноват во всех Юркиных несчастьях. Юра его не жалел, считал, что так правильно.
«Если не вывозишь мой темп, ищи себе кого-то попроще, лошара. Нечего жаловаться».
Хотя китаец больше был похож на того, кто начал бы выёбываться типа «я за что столько бабок отвалил, дайте жалобную книгу».
— Как будто по мне проехал товарняк, — честно ответил Ибо. — Спасибо, что спросил.
Плисецкий собирался сказать, что завтра такая же треня будет, и если ему тяжеловато или что-то не нравится, то пусть валит к хуям, но передумал. У самого ноги отваливались, и ныла спина, что уж с китайца взять. Который, кстати, ни разу не захныкал и не попросил перерыва, вдруг осознал он.
Почему-то сделалось очень стыдно.
— Завтра по лайту покатаем, — пообещал он и зыркнул из-под чёлки, чтоб не заметил.
— Спасибо, Юра. Новость охуенная. Я почти воскрес.
Плисецкий фыркнул.
— Это только на завтра, я тебе спуску не дам, понял?
— Понял, — и через минуту. — Спасибо.
То-то же. То-то же.
Они тогда в такой запаре были, что заселялись вообще не глядя: буквально закинули сумки в прихожую, умылись и поехали на каток. С тренировки тащились глубокой ночью, вымотанные настолько, что даже пособачиться сил не было.
Ван Ибо рухнул на кровать первым. Вытянулся в позе звезды, компартия могла бы гордиться. Плисецкий желал того же, но кровать, как оказалось, была одна.
Он рухнул на неё рядом лицом вниз и пробубнел:
— Я не пойду сраться на ресепшн, ты иди.
Ван Ибо повернул голову и совершенно незамутнённо спросил:
— Про что сраться?
Плисецкий аж немного воспрял духом:
— Ты правда не замечаешь проблемы?
Ван Ибо неопределённо пожал плечами и, поморщившись, вернулся в позу трупа.
— Хорошо, долбонавта кусок, я тебе подскажу. Ты где спать будешь?
— Здесь.
— Хорошо, а я?
Ван Ибо приподнял голову и повертел ей в поисках ещё одной кровати, но её, конечно, не было.
— Ну, и ты здесь? — предложил он. — Места вроде хватает.
— Зашквар какой-то.
— Почему зашквар? — удивился Ван Ибо. — Ты вроде симпатичный, — добавил он и заржал своим дебильным гоблинским смехом, Плисецкий двинул ему с локтя — и тот захрипел что-то нечленораздельное.
— Эй, бешеный, — простонал он, откряхтевшись. — На респешене сейчас никого нет. Ты видел, когда проходили. А даже если есть, переселяться это геморрой минимум на полчаса, но поскольку мы на Кубе, считай, на час. Уверен, что готов?
Плисецкий не был уверен, что способен дотащить своё тело до душа, чо уж там переселяться. Джетлаг явно давал о себе знать.
— Я завтра решу вопрос, лады?
— Лады, — пробубнел Юра, спать хотелось просто зверски.
Ван Ибо действительно решил вопрос утром.
Когда Юра проснулся, в номере он был один. Вещей Ван Ибо тоже нигде не было. Он немного послонялся, проверяя шкафы и свои сумки, затем отправился чистить зубы. У зеркала в ванной он обнаружил записку с подписью: «520, WYB». По всему выходило, что Ван Ибо переехал в другой номер.
Вообще-то это было действительно круто и очень по-пацански. То, как он разрулил это всё по высшему разряду. Вот только вместо благодарности Плисецкий почему-то почувствовал, что его предали. Он потом ещё долго не понимал, почему его это тогда так выбесило.
Ходил и залупался на всё подряд с утроенной силой, а потом становилось стыдно, а потом и это тоже бесило, потому что какого хера. Ван Ибо, казалось, заметил, но спрашивать ничего не стал.
Юра неохотно поднимается с кровати и идёт с инспекцией на балкон. Открытый и узкий. Холодильник и стоптанные тапочки на такой не поставишь. Два стула и микростолик занимают всё свободное пространство. Плисецкий пинает носком кеда сухие трупы насекомых через прутья решётки, и свешивается посмотреть, как летят. Чуть быстрее, чем летели бы листья, а так не отличишь.
— Мы здесь сколько? Неделю? — Ван Ибо вырастает у него за спиной так неожиданно, что Плисецкий чуть не подпрыгивает, заебал уже подкрадываться, что за человек. — Странно, что мы их так ни разу и не видели.
— Здесь-то шансы повыше. Природа, — веско замечает Юра. — От городов далеко, так что самое место, если ты вдруг мечтал, — он упирается в железные прутья локтями и тут же прикусывает язык, запоздало понимая, что Ван Ибо как раз был бы рад, если бы всё так и осталось.
— Не баись, — пытается он по-быстрому исправить положение, — я, если что, тебя прикрою.
Юрка точно знает, что прикроет. Знает также, что готов обоссаться от одной мысли. Потому что он, в отличие от Ван Ибо, все ролики смотрел с открытыми глазами.
Когда он возвращается в номер, Ван Ибо ловко выпутывается из футболки, каким-то образом оставаясь уже в одних трусах:
— Я первый в душ.
— Какого хера? — только и успевает возмутиться Юра, имея в виду вообще всё накопленное разочарование за день.
Ван Ибо запускает в него своей футболкой и резво скрывается за дверью, проворачивая чудесный немецкий замок на два скорых оборота.
«Вот долбонавта кусок», — неопределённо думает Юра, зачем-то сминая его влажную футболку в руках.
Они пёрлись в этот отель два добрых часа. Вернее, злых, потому что в гору. Путеводитель обещал отличный вид на Нойшванштайн. Чего путеводитель не обещал, так это что на протяжении двух часов единственный отличный вид, который тебе светит, — это крепкая китайская жопа товарища, который уверенно будет переть по узкой дорожке впереди, не замедляясь ни на секунду. Беспощадно палящее солнце выжрало из Юры последние остатки самоуважения. Он вспотел как свинья и устал как собака. А этот. Китайское физиологическое чудо, блин. Даже не запыхался.
Футболка в его руках едва влажная. Пиздец, нация сверхлюдей. Угораздило же.
Юра пару раз дёргает ногой, с удовольствием проезжаясь носком кеда по слегка потрёпанному ковролину и малодушно радуясь тому, что хоть что-то в этом номере выглядит всрато. Шум воды из ванной перестаёт звучать ровно, и начинает перемежаться со всплесками и фоновым журчанием.
«Да неужели, наконец, его величество соизволило мыться. Дрочил там что ли», — Плисецкий нервно сглатывает и снова пялится на футболку.
Почему-то снова вспоминается Куба. И то, каким здоровенным тогда показался Ван Ибо. Просто пиздец. Стоял весь такой в солнцезащитных очках, наряд какой-то бомжеватый на Юркин вкус, футболка гавайская, но этому было к лицу. Оглядывал стоянку поверх очков, прослеживая Юркин взгляд.
— Переживёшь, если возьмём что-то постарше пятьдесят девятого года?
Так спрашивал, что захотелось втащить. Так ставят вопрос, чтобы не возражали.
— Чо так? — Юра надул из жвачки огромный пузырь и громко лопнул, с вызовом пялясь сверху вниз, чо здоровый-то такой, реально. Он думал, все азиаты должны быть коротышками.
— Небезопасно.
— На механике что ль не умеешь? — заржал он, тяжело было не выёбываться, потому что этот явно собирался тут что-то из себя строить, Юрка такое за версту чуял и, мягко говоря, не приветствовал.
Ван Ибо кивнул на сидения и сказал:
— Подголовников нет.
— А ты я смотрю нежный дохуя? Я-то как-нибудь переживу. Ты просто в наших жигулях не рассекал в девяностые.
Ван Ибо наконец развернулся к нему, молча устроил свою здоровенную ладонь на шее, продолжая осматривать парковку, — Плисецкий практически подавился жвачкой от неожиданности — и очень медленно произнёс:
— Физику учил?
Плисецкий охренел настолько, что оказался неспособен даже просто промычать.
— При аварийном торможении или столкновении тебя сначала швырнет вперёд, — Ван Ибо легко подтолкнул его голову вперёд, — где ты встретишься с приборной панелью, а потом швырнет назад с той же силой.
Ван Ибо приподнял его лицо за подбородок и легко подтолкнул обратно в ладонь, затылком Юрка чувствовал пальцы на линии роста волос, и немного выше, сглатывал сухим горлом, у него тогда на теле дыбом стояло просто всё, внизу живота зазмеилось что-то горячее и злое.
— Если у кресла есть подголовник, то тебя ещё немного помотает, но если его нет, — он медленно опустил руку ниже, остановившись у самого основания, и продолжая давить за подбородок назад, — твоя бледная тощая шея переломится ровно по линии плеч. Вот здесь. Представил?
Юрка представил. Презентация что надо. Наглядная. Ван Ибо уже убрал руку от его лица, но на нижней губе всё ещё отчётливо жёгся след его невесомого прикосновения.
— Я слышал, фигуристам голова не нужна, но...
Тогда-то Юрка неуютно залип в первый раз. Китаец бесил самым дежурным образом, но тайно от себя он всё же подумал, что вот это было внатуре охуенно. То есть. Им в школе давали физику, но так уныло, что ему даже не приходило в голову стараться, потому что нахуя. В учёные он не стремился, поступать на физмат тоже. Его жалели. Сраную тройку для него никому не было жалко. В классе были задроты, которые с пеной у рта что-то обсуждали на переменах, и это тоже было скучно. Какое-то задротство ради задротства. Юрка не осуждал, но. Но то, что сейчас показал китаец, это... Это неожиданным образом впечатляло. Не какая-то там хуйня в вакууме, а нормальная жизненная штука. В хозяйстве, как говорится, пригодилась бы.
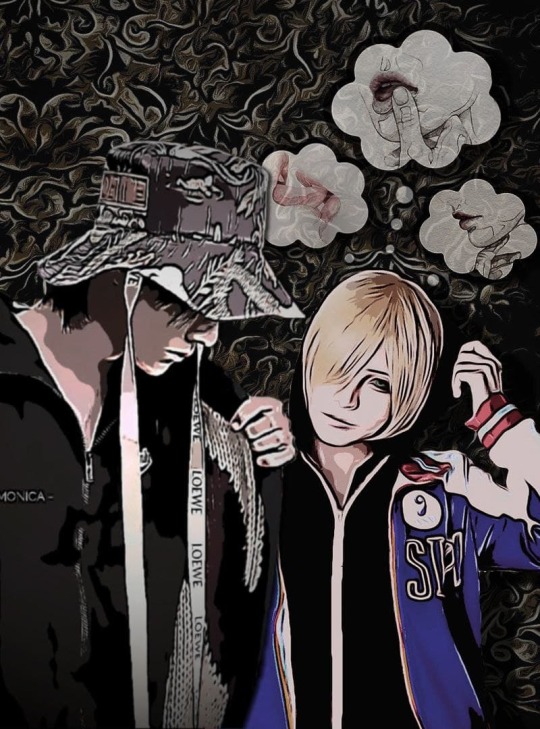
Он для себя как-то так объяснил, почему сразу не двинул с ноги. Опомнившись, стряхнул с себя его руку и спросил:
— Настолько хуёво водишь, что без аварий никак?
— Не всё от меня зависит, — пожал плечами Ван Ибо, и Плисецкий на секунду почувствовал себя непроходимо тупым. — Так что? Решай.
— А чо я-то? — удивился он. — Ты водитель, мне похуй вообще.
Ван Ибо кивнул. И взял вполне себе современную бэху, которая на улицах Кубы выглядела почти инопланетной.
— Что-то ты тащишься как старпёр, только тачку позоришь.
Ван Ибо тогда впервые как-то криво улыбнулся уголком рта, бросил быстрый вороватый взгляд:
— Любишь скорость?
— Люблю.
— Я тоже, — согласился он.
— Так поддай газу? Что ты как неродной? — не унимался Юра.
— Двигаться надо со скоростью потока. А этот антиквариат, — он кивнул на волочащийся перед ними форд, — не способен давать больше 50.
«Скорость потока», — запомнил он зачем-то. Двигаться со скоростью потока.
— Отстой, — резюмировал Юра и отвернулся. — У них тут хоть каток есть?
— Есть.
— Охуеть, я думал в Штаты гоняют, — поделился он, выдувая и лопая очередной пузырь.
Ему было интересно, когда китайца это заебёт. Но тот не возражал, чем начинал уже реально подбешивать.
— Нахуя это тебе?
— Что?
«У тебя график пиздец», — думал тогда Юрка. — «Я знаю, я погуглил. Свободного времени сколько? Минуты четыре в сутки? Это даже не твоя страна, особо не попиаришься, и даже не твоя проблема. Какого хуя? И теперь ещё фигурное катание. Ты не станешь ПРО в этом возрасте, даже КМС вряд ли. Нахуя тогда вообще, если не быть лучше всех?» — вот что он думал. Но вслух сказал:
— Ну… всё?
Ван Ибо молчал долго. Мимо проплывали цветастые истрёпанные дома. Раньше, наверное, были огонь. Кто-то играл на гитаре, танцы среди бела дня. Южные люди всё-таки другие совсем. Плисецкий успел уже забыть про вопрос, когда Ван Ибо вдруг произнёс:
— Хочу.
Пояснил, конечно, как боженька, просто сил нет.
Это сейчас он понимает, что ответ был охуенный. Лучше не скажешь. Но тогда и он не был таким, как сейчас.
«Хочу», — хмыкает он про себя, сжимая и разжимая кулаки. На ткани футболки не остаётся никаких заломов, расправляется обратно за секунды.
«Они вообще потеют?», — он думает эту мысль фоном, без любопытства. Аккуратно расправляет ткань. Вообще никаких влажных следов. Потом смотрит на свою, потемневшую на груди. «Кругом одни предатели», — разочарованно решает он, комкая футболку Ван Ибо обратно.
Остро упираясь локтями в колени, Плисецкий усаживается на край кровати и со скучающим видом подпирает голову обоими кулаками. Футболку не выпускает. Ткань мягко холодит щеки и подбородок. Он нервно елозит пальцами, так, что с каждым движением лицо утопает в ней всё глубже и глубже — виски, лоб, линия роста волос — пока, наконец, не зарывается в неё целиком. Он сводит ладони вместе, крепко прижимает к лицу и, зажмурившись до белых пятен, глубоко-глубоко вдыхает. Затем — ещё раз.
Пахнет охуенно. И Юра дышит как последний раз в жизни.
— Пиздец,— шепчет он глухо. — Мне пиздец.
Он складывается практически пополам, упирается лбом в колени.
В голове становится тихо и пусто. Он слушает неровный шум воды из ванной, и то, как кровь барабанит в уши.
И дышит.
У него появляется шальная мысль своровать её себе. Выклянчить. Сказать, что у нас таких не делают. Что угодно.
Он блядь ужасный очень хуёвый самый отвратительный в мире друг. И ещё, кажется, фетишист.
«Фашист-фетишист, блин», — ржёт он со своей тупой бестолковой шутки.
За дверью слышится шуршание, а затем два быстрых поворота замка. Юра в панике заталкивает футболку под подушку и присаживается на край кровати, руки на колени, как первоклассники на коллективных фотках.
— Юра?
— Чо? Спинку потереть? — хочет звучать расслабленно, а получается нервно, и он хихикает, хотя нихуя не смешно.
— Рюкзак подай, плиз.
«Совсем плохой», — констатирует Юра, но за рюкзаком всё-таки поднимается.
Он подходит, стараясь не всматриваться, что там видно через приоткрытую дверь, из которой дышит влагой и пахнет гелем для душа. Он отворачивается и протягивает рюкзак. Ван Ибо касается его горячими влажными пальцами:
— Юр?
Плисецкий оборачивается на автомате и — блядь, всё-таки смотрит, ну что за человек, а!
— Чего? — рявкает он на всякий случай недобро.
Ван Ибо победно улыбается. Ресницы у него смешно слиплись от воды, Плисецкий насчитывает восемь пучков на правом, левый рассмотреть не успевает.
— Спасибо! — говорит он, проникновенно глядя в глаза.
— Ой, да иди мойся уже, заебал, — выпаливает Юра, чтобы сказать что-то нормальное, а сам думает:
«Пиздец. Никаких нервов не напасёшься».
Он возвращается на свою кровать и падает лицом в подушку. Что люди вообще делают, когда всё в их жизни вот так?
Ебаная катастрофа. Нахера он туда посмотрел? И как теперь это развидеть. И Ван Ибо, наверняка, заметил. Не слепой же он, в самом деле.
Юра тяжело вздыхает. Потом ещё раз. Надевает наушники и включает на ютубе видосы про котов. Лучшего способа отвлечься в мире не существует. А если и существует, то Юра про них не знает.
Он как раз ржёт над подборкой, где коты оглядываются на огурец и подпрыгивают до стратосферы, когда матрас немного покачивается под весом присевшего рядом Ван Ибо.
— Что смотришь? — спрашивает, заглядывая через плечо и вытягивая шею.
Плисецкий чувствует жар, который тот приволок с собой из ванной. Ощущается горячо даже через джинсы. Он оборачивается и хочет огрызнуться, но Ван Ибо смотрит вроде заинтересовано, без подъёба, сидя рядом в одном полотенце, обёрнутом вокруг талии, мокрый и по-мультяшному румяный. Всё душевное равновесие, с таким трудом добытое при помощи котов, летит к чёртовой матери.
Он думает, что, наверное, то же самое испытывают люди, которые долго и методично напиваются, а потом трезвеют за секунду.
Он сглатывает.
— Котиков смотрю, — и когда брови Ван Ибо медленно ползут вверх, добавляет: — Они милые и тупенькие, прямо как ты. Сделаю про тебя канал на ютубе и разбогатею на рекламе.
— Милые, значит, — задумчиво повторяет Ван Ибо, и Юра громко стонет про себя.
«Сейчас бы на лёд», — с тоской думает он, — «и выкатать там всё это дерьмо».
Но льда рядом не было, а Ван Ибо был. Поэтому он лягает его в спину и шипит:
— Чо расселся? Дай вылезти.
Улыбнувшись ему во весь рот, Ван Ибо послушно поднимается, придерживая полотенце рукой.
«Бесишь», — думает Юра, — «как же ты меня бесишь, когда так делаешь».
Внизу живота снова начинает звереть. Ему хочется пальцами в эти влажные волосы и потянуть назад, рявкнуть что-то недоброе, обидное, долго и вдумчиво над самым ухом объяснять, как можно с живыми людьми, а как нельзя.
Вот так — нельзя. А так как он — вообще нельзя.
Он бы сначала укусил. Так, чтобы Ван Ибо по-настоящему проняло. А потом языком по тому же месту. Губами тоже.
Плисецкому неуютно от скорости появления этих мыслей.
Занавешиваясь чёлкой, он быстро собирает своё банное барахло и прячется за дверью в ванной. Немного подумав, замок решает не закрывать.
Из запотевшего мутного отражения на него смотрит чувак, бледный и злой, с больными гриппозными глазами. Ему от себя тошно.
Потому что Ван Ибо нормальный парень и отличный товарищ. А Юра Плисецкий тупой малолетний пиздюк, который вкрашился в своего единственного друга просто потому, что кто-то впервые в жизни относится к нему по-человечески.
Ладно. Не только поэтому.
И сейчас ему охуеть как страшно. Хотя он уже практически смирился, что и в этот раз обязательно всё похерит. Всегда всё херит. Такой вот он человек.
Филантроп. Фашист. Фетишист. Извращенец. Гей.
Ему становится интересно, а если стоит только на китайцев, на одного китайца, поправляет он сам себя, для этого тоже есть название? Типа китаефил? Ибофил? «Хуибофил», — подсказывает он сам себе и ржёт, хотя все это по-прежнему нихуя не смешно.
Включает воду, быстро раздевается и влезает под душ. Его ошпаривает кипятком. Кто вообще способен выжить в такой температуре, грёбаные китайцы. Юра щедро поворачивает рычаг и регулирует температуру до нормальной человеческой. Какое-то время просто бездумно стоит, подставляя лицо под прохладный поток воды, размышляя, что делать дальше.
«А какие тут варианты?» — злится он.
Миссию завершат и разъедутся. Ему иногда так странно от того, что этим всем занимаются только они. Юрке, вот, чтобы осознать хватило двух минут. Остальные-то чего морозятся?
А может это работает, только когда лично рассказываешь? Он вспоминает, как за обедом Ибо вдруг ни с того ни с сего сказал:
— У меня есть фан-клуб, — и прежде чем Юра успел съязвить какую-нибудь тупость, — они купили вертолёт.
— Нахуя им вертолёт? — удивился Юра, правильно говорили, что Восток — дело тонкое.
— Поддерживают так. Баннеры всякие, такие штуки.
— Показушники, — фыркнул Юра и отпил из стакана.
Холодный кофе был мерзким на вкус, каким-то кислым, мороженое неаккуратной формы больше походило на молочный лёд с сахаром.
— В двадцать первом году, когда было наводнение в Хэнани, я полетел волонтёром. Это был пиздец, на самом деле. То, что по телеку, и то, что на месте. Вообще. Короче, они этот вертолёт тоже отправили на помощь пострадавшим.
— Круто, — Юра восхитился совершенно искренне.
— Ага, — согласился Ван Ибо. — Им не надо было получать согласования на согласования, никакие протоколы соблюдать, взяли и прилетели. Потому что так правильно.
И замолчал, надолго. Юра тоже призадумался, вспомнил всё, что знает про своих фанатов, и за Ангелов Юрия сделалось как-то стыдно.
— Приуныл, что твои не такие крутые, да? — ухмыльнулся Ван Ибо.
— Ну, вертолётов у них нет, насколько я знаю, нечем тут крыть, — вяло отозвался Юра, толку спорить.
Он был о фанатах не самого высокого мнения. В основном, они раздражали. Ну то есть. Он был благодарен за поддержку и всё такое, но было бы заебись, если бы они это делали только в специально отведённом месте и специально отведённое время, например, только на соревнованиях. Ну, и в инстике. Это тоже ок. Размечтался.
— Не в этом дело. Если их не направляешь ты, их направляет кто-то другой. У нас так, — добавил Ван Ибо, выдержав паузу. — У вас, я думаю, тоже. Журналисты там всякие, блогеры. Понимаешь, да?
Юра понимал. Так называемые журналисты и блогеры заебали. Журналисты сейчас все. Каждый, у кого есть телефон. Котёнок на дереве — новость. Наводнение в Хэнани — новость. Новое яблоко выпустили в штатах, вот охуеть. Все ебанулись, без экспертов хуй от пальца не отличают. Он хорошо понимал, о чём говорил Ван Ибо.
Чего он не понимал — что этот короткий разговор в итоге приведёт его сюда.
Это вторая его миссия по счёту. Из осмысленных, наверное, первая. За это время Плисецкий кое-что осознал: внимание к катастрофам у людей ситуативное, а за селебами круглосуточный сталк-контроль. Ван Ибо просто нашёл способ обратить эту бесячую херню во благо. Теперь нет такого, что проблема в глубокой жопе в какой-нибудь Африке никого не ебёт. Если она ебёт Ван Ибо, она ебёт и его фанатов. А когда что-то ебёт так много людей одновременно, оказывается, люди разных возрастов, профессий и взглядов, способны объединиться и найти решение. Быстрее и эффективнее, чем правительства и НКО, которые просто, блядь, разучились разговаривать друг с другом без ножа в рукаве.
Плисецкий сначала думал: «нахуй надо, вообще не моя работа».
Потом подумал: «ой, много ты там один наделаешь».
А после Кубы понял, что ебанутый китаец прав.
Большинство их коллег пускали свою власть на какую-то хуйню. На дачи там, на баб или мужиков. А китаец — нет. У него как будто был план, и он упёрто хуярил в его сторону. Никто не разделял его идей, но чем больше времени они проводили вместе, тем лучше Юрка понимал. Выразить словами не мог, но понимал, где правильно, а где гниль ебаная.
В китайце гнилья не было.
Он отплёвывается от воды, выключает воду и вылезает из душа. Воздух влажный, над головой тарахтит вытяжка. Зеркало затянуло испариной, и на нём видны следы от ладоней, наскоро протиравших поверхность. Юра проводит по ним своей, повторяя траекторию движения. Стекло прохладное, а руки у Ван Ибо обычно горячие. Он думает, что китаец снова был прав, когда говорил:
— Бывает, что не получается быть рядом. Зато можно делать что-то так, как будто вы делаете это вместе. Фигня, конечно. Но помогает чувствовать себя ближе.
Бесит быть согласным почти со всем. Поэтому обычно он спорит, а Ван Ибо с ним — нет. Это ещё больше выводит из себя. Особенно, как Ван Ибо слушает это всё. С таким видом, как будто говорят что-то очень важное. Когда так слушают, обязательно чувствуешь себя дураком.
Он выходит из душа, а Ван Ибо как раз сидит на балконе и наклеивает пластырь на коленку. Перед ним открыта аптечка, упаковка выпотрошена, ветер опасно покачивает её за края. Он так и сидит в футболке и трусах, на шорты, видимо, здоровья не хватило.
Плисецкий присаживается напротив. На улице тепло и почти безветренно, редкие капли с волос нехотя холодят затылок.
— Ну и чо, — говорит он, отхлёбывая сок прямо из упаковки. — Стоило оно того?
— М? — Ван Ибо поднимает на него взгляд, внимательный из-под ресниц, Юре почему-то становится душно, он поправляет ворот футболки, чтобы отвлечься. Ледяная капля лениво сползает за шиворот.
— Ну, — поясняет Юра рукой, — фансервис этот ваш. Стоило оно разбитой коленки? Ты же для них прыжок запорол, да?
Плисецкий знает почти наверняка. Он читал, китайцы ебанутые, а он сам для них практически воплощённая влажная мечта э-э-э любителей такого контента. Про крепкую мужскую дружбу.
Ван Ибо разглаживает пластырь на коленке, в глаза не смотрит, говорит:
— Дурак ты, Юра.
И Юре, дураку такому, снова делается жарко и тошно. Через пару дней надо разъезжаться чёрти на сколько. И Плисецкий боится этого, как ничего и никогда раньше не боялся. После Кубы он вернулся выпотрошенным под ноль.
Он даже не понял, когда начал измерять время в обратном направлении. Осталось ещё три дня. Два дня. Один. Сегодня.
Кажется, это произошло между второй и третьей прессухой. Ему ходить было не обязательно, но дел поинтереснее всё равно не было, и проще было дождаться.
— Господин Ван, у вас такой плотный график, вы не жалеете, что приехали?
— Нет.
Плисецкий не выдерживал и прыскал смехом, потому что лицо у Ибо выразительное. Он без помощи пальцев умел показать, что ебал их всех в рот. И что если он о чём и сожалеет, так это что эти прессухи — тоже часть работы.
— По чему вы больше всего скучаете, когда оказываетесь так далеко от дома?
— По семье, — дежурно отвечал Ван Ибо.
— Что вы первым делом сделаете по возвращении?
— Поеду на съёмки, — Плисецкому хотелось запретить все эти вопросы.
Во-первых, они были непроходимо тупые. Во-вторых, зачем спрашивать, что он будет делать там, когда он — здесь. Его злило и то, как неумно они использовали возможность задать вопрос, и то как расточительно тратили их время на ерунду.
— Как тебе прессухи? — спросил он потом, когда они ехали после того самого интервью.
Юра закусил губу и поморщился.
— Тупость.
— Тупость, — согласился Ван Ибо.
Пока Ван Ибо просматривает видео, которое записали ему родители, Плисецкий не вслушивается. Оглядывает близлежащие пейзажи и тоже тянется за телефоном.
— Мечтаешь скорее попасть домой? — спрашивает без интереса, когда звук видео прекращается. Сам листает ленту в Инстаграм, лайкая все посты, включая рекламу.
— Всегда хочу. А ты?
— И я, — врёт Юра и добавляет: — Считаю дни, — а вот это правда.
Хуёво быть тем, кто остаётся. Хуёво быть тем, кто улетает. «Всеми быть хуёво», — думает Юрка.
И так, и так остаёшься один.
И так, и так опустошение и голод.
Есть воспоминание, которое он не лапает слишком часто. Тоже с прессухи. Он сидел тогда в зале, вместе со всеми, на самом последнем ряду, натянув капюшон толстовки по самый рот. Журналисты задавали очередные беспонтовые вопросы, Ван Ибо давал очередные беспонтовые ответы, пока кто-то вдруг не спросил:
— Говорят, у господина Плисецкого не самый простой характер. Вам быстро удалось найти общий язык?
Плисецкий долго пытается усесться поудачней, а потом в итоге закидывает обе ноги на колени Ван Ибо, чуть сползая со своего стула. Вот теперь удобно. Тепло. Продолжая скролить ленту, он бросает быстрый взгляд из-под чёлки: Ван Ибо улыбается, широко и счастливо, не ему, чему-то в телефоне, и кладёт свободную ладонь поверх Юркиной лодыжки.
Плисецкий закусывает костяшку пальца, чтобы не заорать.
«Я в аду», — думает он, — «пиздец меня развезло».
И злится. На танцоров и их контактность. На то, что ладони у него такие горячие и мягкие. На непрошенный стояк, с которым фиг знает, что сейчас делать. И на то, как Ван Ибо тогда ответил:
— Так обычно говорят те, кому орешек не по зубам.
«Ну охуеть, тебе, можно подумать, по зубам», — возмутился Юра настолько, что даже вылез из своего капюшона, потому что китаец в натуре охуел. Где брови, а где пол!!?
Но Ван Ибо не смотрел на журналистов. Не смотрел в камеры. Он исподлобья смотрел прямо на Юру поверх чужих голов, фотоаппаратов и поднятых рук.
— А я не из тех, кто привык сдаваться без боя.
Юре сделалось нехорошо и сладко одновременно. Как когда элемент, который долго и мучительно задрачивал, вдруг получается. И получается идеально.
Юра не часто лапал это воспоминание, потому что оно было драгоценным. Но иногда оно просто всплывало перед глазами, и заглушало собой всё. Как несколько дней назад. И как сейчас.
Юра прикрывает глаза и думает: насрать. Пусть смотрит, пусть охуевает, он уже заебался делать вид, что всё это нормально. В конце концов, сам виноват. Он вообще не собирался вот это всё. Если бы ему кто сказал, он ни за что бы не поверил. Хотя почему «бы»? Ему говорили, и он не верил. Яков так и сказал, дословно:
— Да, брось, Юрка. Понравится он тебе, вот увидишь.
«Ой, да пошёл он нахер», — решил Юра от души, — «сейчас приедет, пальцы свои китайские гнуть начнёт, сто раз таких видел, без продюсера слово не знают, как сказать».
Но вслух хмыкнул:
— Сомневаюсь.
— Вы вообще-то похожи, — задумчиво протянул он.
— Люди вообще-то уникальные снежинки, слыхали о таком?
— Ну вот и посмотрим, — весело хохотнул Яков.
Юра перегнулся через весь стол и прошипел:
— Мне по-вашему совсем нехуй делать? Совесть-то есть вообще?
Барановская многозначительно посмотрела на Юру. Под её взглядом постоянно хотелось извиняться и втягивать шею. Разумеется, Юрка делал ровно обратное.
Она не стала говорить при Якове. Какое-то время они молча стояли у ленты багажа, на которой растерянно проезжали мимо разнокалиберные чемоданы.
— Ну, хоть вы-то ему скажите! — не выдержал Юра.
Барановская молчала отлично, с большим достоинством. Юра тоже мечтал однажды этот скил освоить, но для этого надо было научиться что-то делать со всем тем, что постоянно так и рвалось наружу. Не в этой жизни, наверное.
— Дружба между соперниками — вещь редкая и хрупкая, хотя поначалу всем нравится заблуждаться.
— Это и ежу понятно, — разозлился Юра. — На фигуристах, можно подумать, мир заканчивается. Да я в интернете сколько хочешь друзей могу завести. Хоть китайцев, хоть некитайцев!
Барановская посмотрела на него внимательно и очень серьёзно. Юра понимал, что возражает только из чувства противоречия, но его всё это бесило, и он упрямо продолжал смотреть на неё с вызовом.
Она отвернулась первой.
— Дружба между неравными рано или поздно превращается в благотворительность, мальчик.
Лента услужливо подвезла их чемоданы аккурат к концу высказывания. Разговор был окончен.
Уже позже, в машине, к обсуждению подключилась ещё и Милка:
— Он точно тебе понравится, — резюмировала она, хотя до этого не прозвучало ни одного аргумента, Юра зыркнул на неё недобро, но она не растерялась и ответила: — А ты погугли! Погугли! Для начала.
«Да мне он уже не нравится и заебал меня просто пиздец, и вы тоже все заебали!!!», — упрямо сердился Юра.
Но всё-таки погуглил.
«Лошара какой-то», — решил он по итогу. — «Но двигается неплохо».
Рука на лодыжке легко сжимается и разжимается, как делают кошки лапами, перед тем как устроиться спать. Плисецкий откидывает голову на спинку стула, нашаривает в телефоне аудиокнигу и нажимает «плэй». Солнце лениво катится к закату, еле тёплое, и уже почти не жарит. Он закрывает глаза, и над веками делается ярко.
Голос хороший, выразительный. Книжка вроде бы тоже. Непонятно, от чего так стонут одноклассники. Эта явно поинтересней всяких там «Отцов и детей». Плисецкий слушает, представляет образы и практически не отвлекается на то, как большой палец Ван Ибо невесомо скользит по коже.
— Что за звук? — спрашивает он, и рука замирает, больше не двигается, и хочется крикнуть «ну, чего ты там умер, хорошо же было!»
Плисецкий нажимает на паузу и прислушивается:
— Гроза что ли? — глаза больше не слепит, через закрытые веки кажется, что небо затягивает тучами.
— Не похоже это на грозу, — Ван Ибо произносит достаточно ровно, но Плисецкому не нравится, как оно звучит.
Он открывает глаза, и ему кажется, что с каждой секундой реальность становится всё мрачнее. Тьма, наползающая с Средиземья, в их случае действительно ничего общего с грозой не имеет. И это хуёвые новости.
Потому что это означает только одно: саранча.
Целые полчища. Они всё прибывают, постепенно заволакивая собой высокое чистое небо, до тех пор пока полностью не заслоняют солнце.
Передатчик в ушах сбоит помехами. Ван Ибо что-то говорит, Плисецкий понимает интуитивно. Перевод запаздывает и звучит по-металлически шершаво. Линзы тоже барахлят так, что мир кажется дёрганным и рассыпающимся на части.
— Ага, пойдём, — кивает Юра на дверь, и говорит на полтона громче. Не из-за гула, просто чтобы было понятней.
Китаец оказывается прав в очередной раз: смотреть по телеку и быть на месте — это совсем не одно и то же.
Они забегают в номер, балкон закрывают наглухо, опускают жалюзи. Стекло достаточно прочное, сидеть в полумраке не обязательно, но ни у одного нет желания знакомиться с ними поближе. Рябь перед глазами просто чудовищная. Ван Ибо одновременно с ним приходит к тому же выводу.
Без линз Плисецкий чувствует себя голым и слепым. Слов тоже нет, остались одни имена.
Но много ты ими наговоришь.
Он вообще-то знает пару фраз на китайском. Признаваться, конечно, не будет, потому что тогда станет понятно, зачем учил.
А ещё у него проблемы с аудированием (а у кого их нет?), и всё равно это будет позорищем. Пока Плисецкий ради интереса пытается что-то припомнить, Ван Ибо вдруг говорит:
— Юра хороший.
— Ага, — моментально подхватывает Юра, не успевая толком удивиться. — Юра хороший и Кеша хороший, — китаец, конечно, прикола не понимает, Юра ржёт сам по себе и думает, что вообще нормально китаец выучил, полезное, а он только какую-то хуйню может вспомнить типа “они китайцы”, “она не американка”.
«Человек», «один», «два», «три», «кот», «люблю тебя».
Охуенный джентльменский набор. Братва, налетай.
Он хмыкает, повторяет это всё про себя по-русски и начинает дико ржать, как припадочный. Он чувствует, как слёзы подступают к глазам, и просто не может перестать. Ван Ибо толкает его локтем:
— Эй?
Плисецкий не может ответить. Он пытается, но на первом же слоге его снова выносит к чертям.
— Эй! — требует Ибо, потряхивая за плечи, и тоже ржёт, но по ходу уже с Юркиных конвульсий.
Плисецкий показывает жестом, мол, сейчас, секунду, не видишь — человеку плохо, дай собраться.
А потом набирает воздуха и скороговоркой так и выпаливает, пока снова не накрыло:
— Ren-san-er-yi-mao-ai-ni!
Пока говорит, конечно, забивает болт и на артикуляцию, и на тона, не до них сейчас. Тут бы дожить до конца фразы. До Ибо доходит не сразу, зато когда доходит, он тоже начинает давиться смехом, от чего его щеки сразу кажутся по-дурацки набухшими, как у младенцев. Самообладание хранит он не долго, потому что чувство юмора у Ван Ибо такое же придурочное, и в следующую же секунду он тоже беспомощно съезжает на пол, издавая отвратительные неприличные звуки своим горлом или ртом, короче, собой.
«Ебанутые», — думает Юрка. — «Какие же ебанутые. И нам по ноль лет. И похуй».
Они истерично катаются по полу в полумраке, и ржут оба, и стонут, и снова ржут, цепляясь за плечи друг друга, и это, конечно, не особенно помогает успокоиться.
За окном слышатся частые удары насекомых о стекло. Но прямо сейчас — не страшно.
Утирая влажные глаза, Плисецкий переворачивается кверху брюхом и кашляюще досмеивается. Хорошо вот так полежать, без конвульсий, хотя икота начинает подбешивать.
Настоящий голос Ван Ибо без передатчика звучит немного иначе. Юре нравится.
— Русский-то тебе нахуя? — шепчет он в потолок, не рассчитывая, что тот поймёт. Ему и не надо, чтоб отвечал. Про себя-то ему всё понятно. А про китайца — вообще ни разу.
Ван Ибо отползает к стене и обессилено приваливается к ней.
Поболтать хочется, аж зудит. О чём угодно. Но сети нет, переводчика нет, на пять слов не особо разгуляешься. Нет фильмов и книжек, на улицу тоже не пойти. Застряли в каменном веке посреди нигде. И чёрт его знает, когда этот мрак закончится. Он смотрит снизу вверх на Ван Ибо. Сначала закрыв правый глаз, потом левый, потом снова правый. Его башка слегка смещается туда-сюда, хотя сам Ван Ибо не двигается — Васнецовской Алёнушкой наблюдает за его жалкими потугами хоть как-то развлечься.
Лицо его тоже кажется странным в таком освещении. Плисецкий не хочет давать имя тому, что в нём видится, потому что при свете дня и с гаджетами всё будет по-другому, а слово — застрянет в мозгах надолго и будет его изводить.
Тем, что так было однажды, и больше уже не будет.
Плисецкий не выдерживает, переводит взгляд на коленку. Пластырь весь истрепался и стал похож на мусор, видимо, всё содрал, пока они тут бесились. Из-под него тянется уже подсыхающий след от крови, больше похожий на грязь.
«Она так никогда не затянется», — устало думает Юрка и лезет в карман. Хорошо, хоть додумался сгрести с собой пластыри и салфетки со стола. Он тоже садится, срывает зубами край упаковки и достаёт салфетку. Подъезжает поближе, сдирает старый пластырь, бросает на пол. Рана всё ещё кровит, он смотрит на Ван Ибо строго, мол, что ж ты такой распиздяй, и пучеглазо кивает на салфетку, мол, не благодари, давай уже, протирай, заклеивай, вот это всё.
Китаец как будто не понимает. Сидит, улыбается, сверлит своими глазищами, и Плисецкий обречённо думает:
«Ну, за что? За какие такие грехи, а?».
Проводит салфеткой сам. Осторожно, почти невесомо, где рана. Пожёстче там, где уже успело подсохнуть. Салфетку бросает рядом на пол, потрошит упаковку с пластырем, клеит, расправляет от складок. И снова, и снова, и снова. Нормально вроде держится. В отличие от него.
Он сглатывает вязкую слюну. В стекло всё ещё барабанят. В ушах тоже стучит, и стучит часто.
— Юра? — тихо зовёт Ван Ибо.
Он смотрит из-под ресниц, расслабленный жаркий, Плисецкому делается нехорошо под этим взглядом.
— Заткнись, — шипит Юра ему в коленку, — заткнись, бога ради, я и так уже, блядь, не вывожу. У меня нервы не резиновые, я себе уже все руки на тебя стёр.
Ван Ибо улыбается так, что Плисецкому охота застрелиться. Опомнившись, отдёргивает руки от коленки и валится обратно на пол — икать, рассматривать потолок, стены, тоненькие пульсирующие полоски света от жалюзи на ковре, что угод��о.
Ван Ибо следует за ним, устраивается совсем рядом, Плисецкий чувствует затылком его дыхание, и когда он вдруг произносит тихое «и я», Юру аж подбрасывает. Он оборачивается и страшным голосом спрашивает:
— В КАКОМ СМЫСЛЕ «И Я»?!
С ошалелыми от ужаса глазами Ван Ибо поясняет что-то на своём, Плисецкий жестами напоминает, что передатчик-то тю-тю!
Ван Ибо тяжело вздыхает и предлагает то немногое, что у него есть:
— Да?
— ЧТО ДА, ВАН ИБО?
— Да, и я?
— ТЫ ПОНИМАЕШЬ ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ? — орёт Плисецкий, сам не понимая зачем. — ХУЛИ ТЫ МОЛЧАЛ? ПОЧЕМУ ТВОЙ РАБОТАЕТ?
Ван Ибо показывает на ухо и говорит:
— ПРО.
—А-а! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧТО ЛИ? АВТОНОМНЫЙ? — Плисецкий сам не знает, почему продолжает орать. Кажется, что так надёжней.
Ван Ибо кивает.
Ну, конечно, блядь, профессиональный, а какой ещё? У человека съёмки повсюду по сто часов в каждой из жоп мира, будет он с туристическим каждые пять часов на зарядку бегать и сеть ловить, как же.
— Подслушивал, значит? — предъявляет ему Плисецкий.
А что ещё делать? Не каяться же в собственном слабоумии.
— Да, — отвечает Ибо, растягивая губы в самой нахальной своей ухмылке.
— Манда! — передразнивает Юра, а в голове зудит миллион вопросов, которые даже не задашь, потому что из ответов у этого только «да», «Юра» и «хороший». Но Плисецкий тоже не из тех, кто привык сдаваться без боя. Сейчас он всё разрулит, как любой нормальный русский, из говна и палок. Он разворачивается к Ван Ибо теперь полностью, и нависает над ним, разглядывая эту наглую хитрую рожу, как в первый раз.
В дверь стучат.
Они переглядываются, как в плохих комедиях, и их швыряет в разные стороны. Ван Ибо прочищает горло и открывает дверь. На пороге стоит чувак из съёмочной группы.
Юра запомнил его как “Джексон”, в китайское имя даже не пытался. Это тебе не Ибо. Джексон, понятное дело, ничего не видел, но Юра все равно чувствует, что краснеет аж до макушки.
Ван Ибо что-то мурлычет на своём, потом подходит к Юре показывает на батарею и камеру. Спрашивает:
— Да?
— Снимать пока батарея не сдохла? — предлагает он, Ван Ибо кивает и тычет на розетки. — А-а! Если электричество вдруг отрубят?
Его лицо сияет, как будто в крокодила они играют на деньги.
— Да? — спрашивает, кивая на дверь.
— Ну, пойдём, всё равно заняться особо нечем.
Они идут по коридору, мрачнота вокруг — хоть хорроры снимай. Электричество что ли экономят? Саранча что ли летает на свет?
Плохо без гугла. Без гугла и без мозгов. И без переводчика плохо. Юра решает кое-что проверить, тыкает локтем Джексона и спрашивает:
— Они чо на свет летят, да?
Джексон смотрит беспомощно сначала на Юру, потом на Ибо, показывая, что уши пустые и он не понимает.
Ван Ибо переводит вопрос, и Джексон снова делает страдальческое лицо типа «чо ты докопался, я просто за камеру отвечаю», а потом лицом же добавляет «прости».
Юра удовлетворён. Пока он думает над вопросом, Ван Ибо легко касается его руки пальцами, как бы случайно. Его прошивает разрядом. Они идут близко, коридор тесный. Юра понимает, что он и раньше так делал. А Юра. А Юра как дурак проклинал тесноту, коридоры и свою впечатлительность, вот что делал Юра.
— И давно? — спрашивает он, когда они, наконец, добираются до лестницы.
Ван Ибо коротко кивает. На нем такой дежурный непробиваемый покерфэйс, что на секунду Юра думает, что Ибо не понял вопрос.
— На Кубе ещё? — уточняет он.
Джексон возится с ключ-картой, которая отказывает уже второй раз.
— Да, — говорит Ван Ибо Юре, а потом — что-то говорит Джексону. Тот энергично кивает и достаёт вторую ключ-карту, которая подходит.
Они оказываются в широком конференц-зале. Здесь тоже темно, жалюзи задёрнуты, как и у них в номере.
— Или ещё до Кубы? — не унимается Юра.
В зале загорается свет. Джексон смотрит на Ибо и что-то спрашивает. Он сглатывает и кивает, а потом поворачивается к Юре и говорит:
— Да.
И снова это выражение на лице, как будто обнял без рук.
«Да», — с нежностью думает Юра. — «До Кубы ещё. А хули ж ты молчал, скотина такая!»
— Знаешь, как «нет» сказать? — хмуро уточняет на всякий случай.
— Неа, — отвечает Ибо и ржёт.
Получается как-то нервно.
Оператор открывает жалюзи и на секунду лица каждого из них перекашивает от отвращения. Окно кажется живым. Стекло — хрупким.
За окном шипит саранча. Звукоизоляция плотная, звук, который они слышат, ненастоящий. Но кажется таким реальным.
Джексон проверяет свет в помещении, подсветку от камеры и судя по бесконечному цыканью, которое он выдаёт через каждые пять секунд, всё не то и свет здесь сущая катастрофа.
Впрочем, на Юриной памяти Джексон светом не был доволен ни разу. Однако картинку каждый раз выдавал как боженька. Юре было с чем сравнивать и на чём проверять: лицо всегда расцветает, когда умоляешь его этого не делать хотя бы в день проката или съёмок. Но на кадрах от Джексона независимо ни от чего он получался всегда таким идеальным, каких в природе просто не существует.
Джексон говорит что-то Ван Ибо, кивает Юре и выходит из конференц-зала, раздосадовано размахивая руками. Ван Ибо ржёт в кулак и смотрит на Юру.
Смотрит. А чувство, будто тащит буксиром. Юра насильно врастает ногами в пол. Ему кажется, если сделает хоть шаг, обратно отлепиться уже не сможет. Ван Ибо что-то такое, видимо, угадывает по лицу, потому что шагает навстречу сам. Его руки невесомо проезжаются по подоконнику, которому Плисецкий в эту секунду безбожно завидует.
— А Джексон? — беспомощно спрашивает Юра.
Он не тупой, он понимает, что сейчас будет. Ему перемкнуло в башке, он способен думать только три гласные. Ну, может, две. У него дрожат руки и слабеют колени, когда Ибо подходит и говорит:
— Юра.
Сознание реально коротит. С ним такого ещё не было. Он разрывается между тем чтобы, как следует двинуть Ибо в челюсть — типа приди в себя, придурок, сейчас Джексон вернётся — и сделай это. Сделай это немедленно. Если ты не сделаешь, я тебя сам пристрелю.
Ибо выглядит совсем помешанным. Когда он так смотрят — это очень страшно и круче чего угодно. Круче медалей и воплей с трибуны. Плисецкий теребит ногтем боковой шов на своих джинсах, как оберег от глупостей. Только это не работает. Потому что Ибо уже рядом. Останавливает это движение своей горячей ладонью, сплетает пальцы и резко дёргает на себя, так, что Плисецкий спотыкается на ровном месте и врезается в него:
— Ты охуел? — возмущается он, за секунду вспыхивая до небес и растеряв от неожиданности весь свой цветистый набор ругательств.
— Да, — отвечает Ван Ибо, и взгляд у него поплывший, и что-то есть в его голосе такое, что Юра тоже делается немного бухой.
Он закрывает рот, которым только что хотел выругаться, туго осознавая, что между ними почти не осталось свободного пространства. Что Ибо гладит его лицо, а он немножечко задыхается.
Рука ещё эта. Цепляется за ремень джинсов, увесисто, тяжело.
«Поцелуй меня что ли, чо стоим как придурки», — думает Юра. Но Ван Ибо никуда не торопится. Утыкается носом в макушку, и, кажется, в один глоток снюхивает с него все запахи разом. Ван Ибо прижимает его к себе всего, одним здоровенным жестом. Целует макушку. Целует лоб. Целует ниже. Брови ресницы. Приподнимает лицо за подбородок.
Плисецкий думает, что футболка огнеупорно направляет весь жар этого проклятущего лета ему под рёбра. Он плавится. Закусывает губу. Его мелко и сладко колотит. Он весь как натянутая струна. Ему надо на воздух, в душ, подрочить, спрятать лицо в подушке и как следует поорать.
Ван Ибо жрёт его глазами. Дико, голодно и так открыто, что Плисецкий на полном серьёзе засматривается на вытянутый конференц-стол, в котором так удачно нет никаких углов, в качестве подходящей горизонтальной поверхности.
Ван Ибо прослеживает взгляд и смеётся. Не так как обычно, запрокинув голову и надрываясь всем собой. А как если бы пытался спросить “серьёзно?”.
— В жопу иди, ладненько? — отвечает ему Юра вслух.
Но вместо того чтобы оскорбиться, Ван Ибо целует его. Как будто звук голоса последнюю резьбу сорвал. Юра захлёбывается воздухом от неожиданности. Ван Ибо держит его лицо в своих руках, наклоняя аккуратно, как удобно обоим.
У него такой вкус. Люди такими не бывают. Не должны, по меньшей мере. Юре не хватает воздуха, он жадничает, ему жалко тратить время на вздох, ког��а губы Ван Ибо так близко, когда он так целуется, что Юра как-то слабеет всем телом сразу: ноги ватные, руки не слушаются, горло стонет без спроса, тонко, жалостливо, господи, он даже не знал, что способен на такие звуки.
Ручка входной двери пару раз вхолостую дёргается вниз. Ван Ибо успевает в последнем вороватом жесте провести большим пальцем ему по губам, а затем приложить к своим.
Юра думает очень честное: «Я сейчас, нахрен, сгорю».
И ещё он думает: «Мне б на воздух».
Из дверей сначала появляется один софтбокс, затем другой. Джексон закрывает дверь ногой, Ван Ибо быстро подбегает и забирает один из них себе. Плисецкий никуда не подбегает.
Стоит как дурак, и думает: «А, точно».
Мог бы тоже помочь, если бы не мозги ватой не заволокло.
«Интересно», — думает он, — «каждый раз так теперь будет что ли».
Джексон лезет под стол в поисках розетки, и Юра ненавидит его всей душой. Смотрит на Ибо, на смазанный контур губ и думает «это я сделал, это моё».
Моё.
Это слово делает только хуже, но Юра как самый последний из торчков примеряет его к тому, кто стоит напротив, и тихо дуреет в своей голове от собственной беспомощности перед его всемогуществом.
Моё.
И тело отзывается моментально, стояк приветствует его собственнические инстинкты и всячески поддерживает. А Джексон всё копошится и копошится, и Юра чувствует почти отчаяние. Поэтому тоже лезет под стол, потому что жить эту жизнь с таким напряжением в своей лучшей половине он не привык дольше пяти минут.
— Давай помогу, — он светит фонариком с телефона, и Джексон, кажется, говорит, «спасибо». Или «старшая сестра». Юре пофиг, если честно, хоть «стюардесса по имени Жанна», ему надо поскорее вернуть Ибо в номер, и делать там с ним разные вещи.
С фонариком дело идёт получше, Джексон, наконец, заканчивает возиться и переходит к установке. Ван Ибо включает профессиональный режим, и Юра думает «хорошо».
Хорошо, когда можно не делать вид, а быть. Хотя бы перед ним. А Ибо вдруг тоже ему улыбается, как бы подтверждая, что да, неплохо.
Джексон что-то говорит Ибо, и тот переводит:
— Юра? — он подзывает жестом его подойти, и Юра думает, что по другую сторону стола ему стоялось очень сильно спокойней.
Они с Джексонам показывают пантомиму, что нужно от Юры, типа стойте, смейтесь, хлопки по плечу, смотрите через жалюзи, и в телефоны. Такая задача.
Джексон снимает. Юре иногда кажется, что он работает от ворчания. Что весь талант — это всего лишь заклинания, которые они произносит ворчливым тоном, превращая даже картон в того, кого захочется облизать. У Ван Ибо какой-то пунктик по поводу лучших, собирает их вокруг себя, как покемонов.
«И правильно делает», — решает Юра.
«А то иначе это — благотворительность», — неожиданно понимает он Барановскую так ясно, как ��ообще не хотел.
Надо собраться. Надо лицо нормальное сделать.
Они делают пару дублей, и надо ещё жалюзи открыть, чтобы они как будто саранчу смотрят. Ван Ибо тоже надо смотреть, а лицо у него неживое. Мозг Плисецкого, наконец, начинает кровоснабжаться как следует, и он говорит:
— Я сделаю. Ты повернись к камере спиной и зажмурься, ок? Я скомандую, когда можно будет развернуться.
Ван Ибо кивает и прочищает горло. Юра кивает тоже.
Они склоняются над подоконником, Ван Ибо зажмуривается, и Юра залипает дольше положенного. Он смешно жмурится, как в детстве, как будто если приложить усилие и жмуриться достаточно сильно, всё зло отступит перед твоей несгибаемой волей.
«Хера пацан жмурится, видали? С такими лучше не связываться, такие не пленных не берут». Типа того.
Ему становится смешно со своей же аналогии, и он расслабляется. Не то что бы он сам был фанатом насекомых. Тем более саранчи. Она страшная как пиздец. Но если надо для Ибо, он всё сделает.
— Съёмка пошла, — говорит Юра. — Я буду комментировать, всё что происходит, чтобы мы нормально отработали. Ты глаза пока не открывай, — он лезет пальцами и разгибает жестянки в стороны, главное, чтобы рука не дрожала, а то опозорится на полмира сразу.
Он поворачивает лицо к Ибо и говорит:
— Я сейчас развернулся к тебе и говорю всякий бред, чтобы было похоже, что я в некотором роде эксперт по саранче, а тебе так интересно, что ты аж позеленел и вот-вот блеванёшь.
Ван Ибо смеётся и открывает глаза. Он не смотрит в сторону окна, смотрит на Юру, взгляд у него хоть святых выноси.
— Стоп, — орёт Джексон.
Они обходят его с двух сторон и просматривают превью. Плисецкий с неудовольствием замечает, с какой же тупой рожей он пялится на Ибо в начале съёмок. Такое нельзя показывать в Китае. Нигде нельзя. Их арестуют и отправят в разные камеры в назидание всем туполицым.
Джексон что-то говорит Ибо, и кланяется. Расходимся, значит? Плисецкий тоже кланяется на автомате, не знает, зачем, раньше не делал так, а тут, кажется понабрался. Джексон косится как-то недоверчиво, а потом улыбается. Охуеть. Такого Юра ещё не видел, поэтому тоже улыбается.
Джексон тащит оборудование к окну, снимать крупные планы насекомых через стекло, а Ибо кивает на дверь.
Они выходят в плотную темноту коридора, Ван Ибо находит его руку и сжимает крепко. Рука неожиданно влажная и прохладная, не такая, как обычно.
— Страшно было? — спрашивает Юра.
Шаги гулко отражаются от тёмных неживых стен, нормальное он выбрал место для вопроса.
— Да, — голос у Ибо деревянный.
— Повезло тебе, что я всё разрулил, как боженька, а? — Плисецкий легонько толкает Ибо плечом, и тот крепче сжимает его руку.
— Да, — говорит он, и Юра не видит, но кажется смеётся, — охуенный.
Плисецкий давится смехом на полдороги:
— Ты чо, русский со спецкурса по матюгам начал?
— Да.
«Чтобы быть ближе», — понимает он, и это понимание обжигает. Хорошо, что темно, а то он бы своей физиономией выдал бы вообще всё, что думает по этому поводу.
В их номере тоже темно, но почему-то темнота не кажется злой. Привычная, домашняя, выключатели тебе — бро, косяки и пороги — нет. Ван Ибо включает свет ванной, и узкая полоска света делит комнату на две части. Глаза у него как у хищника, блестят, острые и жаркие, Плисецкий сглатывает тяжело:
— Так что ты там говорил о моих заслугах? — сердце подрагивает в самой глотке, делает голос скрипучим и немного чужим.
Ван Ибо неопределённо пожимает плечами и проводит рукой по Юркиным волосам, убирая их от лица.
— Охуенный, — повторяет он, и у Юры в животе звереет что-то дикое и прожорливое.
— Скажи так ещё.
— Ты охуенный, Юра, — Ван Ибо послушно шепчет это на ухо, а Плисецкий дуреет.
Он хочет слушать это на повторе, чтобы его голосом, чтобы с акцентом, чтобы с этим слишком мягким почти отсутствующим рычанием в имени.
— Мой, — продолжает Ван Ибо.
Мой.
Шёпот такой тягучий и сладкий, как с другой планеты, и Юру отдельно высаживает и с того, как он это произносит и с того, что вообще Ван Ибо о нём думал. Думал, когда искал в словарях, заучивал и повторял. Подбирал правильные слова. Как представлял, наверное, себе всякое. Как, наверное, себя трогал.
Юра чувствует себя жадиной, зубастым и голодным, он хочет и сожрёт всё, что ему дадут. Пока не растерял решимость, он толкает Ибо к ближайшей стене, проводит языком в том месте, на которое облизывался днём, и кусает. Потом языком, потом губами, как представлял. Ван Ибо шипит под ним и кажется скрученным в тугую раскалённую добела пружину. Плисецкий царапает затылок, ведёт языком от ключиц к уху, цепляет передатчик зубами, медленно вытаскивает за пластиковый проводок и сплёвывает себе в ладонь. Ван Ибо возмущённо мычит, стараясь хотя бы повернуть голову, но Плисецкий держит крепко. Он собирается сделать кое-что ебанутое. Как в старом и несмешном анекдоте. Он наклоняется близко-близко, занимает такую позицию, чтобы было видно глаза, а потом очень отчётливо, растягивая каждый из звуков шепчет:
— Ai…ni, — и когда на лице китайца обозначается достаточная степень безумия, Юра удовлетворённо скалится и добавляет, — mao?
Оказавшись на кровати и на лопатках, начинает заливисто ржать. Он не хотел, оно само. Звук, который он слышит, не похож на его смех. Похоже на что-то дикое, ржавое и страшное. В голове стучит «ну вот ты и довыёбывался», потому что на выразительном лице Ван Ибо очень выразительно так и написано:
«Плисецкий, ты довыёбывался».
У Юры под этим взглядом по шкуре проходит нехилый такой озноб. «Ты ещё оближись», — думает он нервно и сам сглатывает.
На самом деле Плисецкому страшно. Он изучил матчасть. И в ознакомительных целях, и в практических. Он не уверен, что гей настолько, он вообще не особо уверен, что кто-то кроме Ибо ему интересен в этом смысле. Он не знает ни как спросить, ни как предложить, он не видит себя ни в одной из ролей, у него нет контрацепции, потому что он человек одарённый, но в другой области, а в этой он неопытен и очевидно туповат. Он волнуется по поводу всего. Что встал, и что упадёт, и что не понравится никому, и что делать хер пойми что. Ему жадно, и страшно, и всё время хочется заорать.
Юра кладёт на лицо подушку и воет, когда Ван Ибо касается его губами там. Выходит громко. Ван Ибо без отрыва от производства сгребает её рукой, и решительно скидывает куда-то на пол, греет его руками, пока говорит:
— Неа, — и скалится — моё
«Так нельзя. Как нельзя? Так нельзя!» — думает Юра и закусывает палец, он как пациенты под электрошоком, закусил бы сейчас с удовольствием деревянный брусок размером с полено.
Он всё понял, что Ибо упаковал в два слова.
Моё. Никаких подушек, никаких деревянных брусков. Я ждал сто лет, не смей от меня прятать. Это моё. Я заслужил. Мы заслужили.
Моё. Плисецкий, хоть раз в жизни, побудь хоть с кем-то честным до конца.
Моё. Только попробуй для кого-то ещё быть таким же, как сейчас. Это всё только моё, ясно?
Юра не может сказать наверняка, почему, но какой-то из давно зажатых нервов вдруг расслабляется, и он отпускает себя.
Становится так хорошо, как не было вообще никогда.
Он открывает глаза и разрешает себе посмотреть на Ибо, который там так увлечённо старается. Который смотрит в глаза и делает языком, что-то такое, что Плисецкому простреливает, кажется, до самых мозгов.
Он падает головой на подушку. Его заклинило на мысли о том, какой же Ибо невозможный. Какой же он невозможный во всём, что делает. Даже здесь, господи, Плисецкий, ты просто везучий сукин сын, ты сорвал джек-пот о-о-о господи.
Перед глазами красные и синие пятна, практически национальный флаг, у него плывёт потолок, шкура и вся ёбаная жизнь. Ван Ибо гладит его тихо, и Плисецкий не знает, как посмотреть ему в глаза, потому что его собственные глаза, кажется, не собираются слушаться в ближайшее десятилетие.
Он говорит: «Иди сюда». И Ван Ибо наползает. Плисецкий утыкается лицом ему куда-то в ключицы. И дышит. Он не знает, как сказать. Поэтому кусает плечо. Больно, без скидок. Ван Ибо шипит, но не дёргается.
Он, кажется, правильно понял.
Он, честно говоря, заебал уже всё правильно понимать, думает Юра, спускаясь рукой всё ниже. Он как-то упустил момент, когда Ибо оказался без одежды, он трогает его впервые и, надо сказать, Юра впечатлён.
И в замешательстве. Он представляет ЭТО внутри себя со смесью ужаса и азарта. Ужас пока что побеждает.
— Я сейчас сделаю тебе охуенно, прости за каламбур.
Ван Ибо ржёт и открывает глаза. Смотрит на Юру таким взглядом, от которого всё снова звереет. Он проглатывает это ощущение. Облизывает ладонь целиком, от запястья, с удовольствием слушая, как Ибо роняет свой стон в подушку. А ведь Плисецкий ещё даже толком не притронулся. Просто подготовил ладонь.
Он обхватывает Ибо одной рукой, другой — решительно выкидывает подушку вслед первой, и очень выразительно произносит:
— Моё, понял?
Ван Ибо очень понятливый. Самый лучший. И такой честный, что Юра захлёбывается им. У него снова стоит, это какой-то полный вперёд, он отвлекается и притирается тоже, потому что смотреть и слушать с каменной рожей просто за гранью человеческих способностей.
А потом Ибо что-то кричит, на своём, растекаясь в его руках, и Юра финиширует следом.
Он дышит громко, со звуком, как после интервальной, расслабленный сразу везде, в голове пусто, и разноцветные пятна плывут в тихом, умиротворяющем темпе.
— Расскажешь, что ты кричал?
Ван Ибо не отвечает. Хищно обнимает Юрку и загнанно дышит в лоб.
А потом отрубается почти моментально, а Плисецкий — нет. Долго смотрит в потолок, а потом на Ибо. На губы, которые только что целовал, на ресницы, которые беспокойно подрагивают. Волосы на подушке. Кисти рук, напряжённые, совсем не похожие на руки спящего человека.
Что-то большое внутри надламывается в трёх местах. Его потряхивает.
Плисецкий отворачивается.
Испепеляет глазами пустые зрачки потолка и гоняет на повторе одну и ту же мысль.
«Ну, чо допрыгался, космонавт? Доволен? Получил, чо хотел? Получил?»
Он крепко сжимает зубы, но подбородок все равно дрожит.
Осторожно поднимается на кровати, закусывает кулак и подходит к окну. Пальцами раздвигает жалюзи и тут же отдёргивает. Окно снаружи все ещё кажется живым. Все двигаются и вибрируют. Голодные, страшные, отвратительные.
Осталось ещё два дня. Целых два дня. Почему теперь так паршиво? Почему стало только хуже? Плисецкий не знает. Но он вроде как рад, что передатчик не фурычит. Что Ван Ибо не сможет спросить, а Плисецкому не надо будет отвечать.
Обратный отсчёт его добивает, и больше не хочется одному, когда можно — так.
Он долго мается с этой мыслью, но в итоге собирает себя в кулак, вытирает сопли и тащится обратно. Немного подумав, закидывает руку и всё-таки обнимает своё проклятье. Проклятье кряхтит, что-то бормочет и обнимает его в ответ.
***
За завтраком Плисецкий отрывается на все. Пока не видят взрослые, пока все озабочены катастрофой, он выбирает абсолютно все виды сосисок и победно приволакивает своё богатство за свободный стол. Ван Ибо пьёт чай и залипает в телефон. Интернет тянет по чайной ложке. На что он там пялится столько времени — вопрос. Хотя по правде, любопытство Юры очень вялое. Это буквально может быть что угодно. Это же Ван Ибо.
Кровожадно препарирует первую сосиску и с ужасом понимает: жирная. Не в смысле как же моя диета, а в смысле, уже так отвык, что на вкус очень странно. Он задумчиво жуёт и пялится. Ибо похож на восковую статую, нос смешно блестит в этом желтом свете. Плисецкий пихает его ногой под столом.
— Чо такое лицо сложное? Компартия вызывает? — говорит он, кусая одну из сосисок и одновременно осознавая, что делает именно то, что делает, по соответствующей выразительной реакции Ван Ибо. — Ща, погоди, за бананом ещё сгоняю, а то недостаточно фаллическая пантомима, да?
Ван Ибо как хороший мальчик в общественных местах гогочет не очень громко, пинает Плисецкого под столом и делает страшные глаза. Плисецкий остаётся доволен. И за бананом не идёт.
—Так что там у тебя? — он находит, наконец, нож и решает для разнообразия им воспользоваться.
Ван Ибо почему-то мрачнеет.
Он открывает телефон с кучей китайского текста. Плисецкий не догоняет. Разбирает только цифры, похоже на авиабилеты.
— Ну, обратные билеты, — говорит. — И?
Вздыхая, Ван Ибо увеличивает дату и время.
— Да в смысле? Это законно вообще?
Ван Ибо неопределённо машет рукой и говорит:
— Да.
Да, законно, потому что форс-мажор. Да, законно, потому что большинство пассажиров оборвали все телефоны, чтобы их вывезли отсюда как можно скорее. Да, законно, потому что это единственный способ для компании не влететь на огромный иск от студии Ван Ибо за то, что он опоздает на свой проект.
Настроение моментально смывается в унитаз.
«Они меня обокрали», — Юра тупо пялится на гигантские дату и время, продолжая ожесточённо нарезать пустое пространство между двумя частями сосиски. Нож и тарелка скрипят с отвратительным звуком. Юра замечает это, только когда Ван Ибо останавливает движения его руки своей.
Плисецкий поднимает взгляд. Ван Ибо выглядит настолько спокойным, насколько Плисецкому хотелось бы раскрошить все в этой грёбаной столовой.
Действительно, чего убиваться-то, да?
Народу в Китае, он слышал, что дохуя. Каждый второй пускает на него слюни. Не пропадёт, в самом деле.
Ему вдруг делается нехорошо на стольких уровнях сразу, что он просто подрывается из-за стола и не произнося ни слова, широко размахивая руками, чешет в сторону выхода. На полдороги вспоминает, что на улицу нельзя, пока полностью не осядет облако химикатов. Поэтому разворачивается в сторону номера.
Хорошо, что передатчик не работает. Хорошо, что Ван Ибо не сможет спросить. Плисецкий бы предпочёл выстрелить себе в голову из дробовика дважды, чем что-то объяснять.
Ван Ибо нагоняет его на входе в номер.
Плохая новость в том, что Ван Ибо переводчик не требуется. Он обхватывает Плисецкого за плечи и разворачивает к себе лицом.
— Юра?
Плисецкий не даётся, выпутывается, но Ибо возвращает его обратно, прижимает к стене:
— Юра?
— Отъебись, а? Будь другом! — он дёргает плечом, освобождает руку, Ван Ибо носится глазами по его лицу, пытаясь понять, какого черта тут происходит. Плисецкий, наконец, поднимает взгляд, и тоже смотрит.
На, подавись, доволен?
На лице Ибо понимания не добавляется, Плисецкий чувствует, как рот непроизвольно кривится в привычной злобной усмешке. Он перестаёт дёргаться. Обмякает и сползает из слабеющей хватки по стене, на этот ёбаный мерзкий ковролин. И обхватывает колени руками. И прячет лицо.
— Юра?
Ну, что Юра? Что ты мне Юркаешь? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Как я все это ненавижу? Как мне было до тебя нормально, и как теперь — кишками наружу, хоть вешайся? Или может — ещё лучше — может, в ноги тебе упасть и попросить бросить свой ёбаный Китай, свои ёбаные проекты, переехать ко мне, в мой вонючий Питер, смотреть «танцы на тнт» и в доту лабать после тренировок?
Юра думает последнюю мысль почти весело, с каким-то даже удовольствием, типа, зацените, болезного, во даёт, губу раскатал.
Ван Ибо опускается рядом с ним на пол, садится по-турецки напротив и заглядывает в лицо. Кто-то воет внутри на дурной и осипшей ноте:
«Не бросай меня, а? Хоть ты не бросай?».
Он почти произносит это вслух, громко сморкаясь, так что закладывает оба уха, но в последний момент передумывает.
«Ну, почему ты такое ссыкло, Плисецкий?».
Ему не надо себе отвечать. Он это отлично усвоил из опыта. Потому что его никто и никогда не выбирает, если есть из чего выбирать. Он никому не нужен, когда не вгрызается в своё зубами и когтями.
Заебался цепляться, зебался доказывать.
Хоть бы кто-то. Хотя бы раз.
«Себе-то не ври».
Ничего из этого он, конечно, вслух не говорит. Не маленький вроде. За приоритеты шарит прекрасно.
— Звиняй, — выдаёт он в итоге, голос кажется сиплым и чужим. — Ненавижу ебучие братвурсты, вечно сначала нажрусь, а потом неделями сгоняю. Ну, сам понимаешь.
Ван Ибо хмыкает и подвигается ближе. Обнимает лицо своими огромными ладонями. Большими пальцами невесомо вытирает мокрое.
К горлу снова подкатывает. Юра закусывает щеку изнутри до металлического привкуса и думает:
«Я сейчас вскроюсь прямо тут. Завязывай, а?».
Ван Ибо легко тыкается в губы. Поцелуй солёный и вязкий. Плисецкий чувствует себя ��оследним кретином, потому что какого-то чёрта эффект у этого поцелуя ровно противоположный успокоительному. Невпопад в голове всплывает выражение «ебать и плакать», так вот оно как, оказывается. Он переполняется каким-то истерическим весельем, и думает:
«Похуй. Зубами так зубами. Когтями так когтями. Моё. Не отдам».
Ван Ибо касается пальцами его уха, бережно, и засовывает внутрь что-то тёплое. Плисецкий не успевает возмутиться: он слышит сигналы калибровки, и сразу понимает всё.
— Плисец, — говорит Ибо в одно ухо, передатчик металлическим эхом вторит ему как будто в самом центре его бедной тупой башки. — Ты веришь мне?
И смотрит внимательно. И гладит лицо. Плисецкий думает «ты тупой что ли, я никому не верю, все заебали, все постоянно подводят».
И в следующую секунду понимает, что это херня.
Ибо — не все.
Голос охрипший, не слушается. Юра прокашливается несколько раз, с силой протирает лицо ладонями и говорит, уже нормально:
— Верю.
— Тогда не сомневайся, — Ван Ибо простой как песня без куплетов.
Юра ржёт. Не сомневайся, говорит, братан, нормально всё будет. Но говорит с так, как будто каждое слово обладает волшебной силой. И почему-то очень хочется верить. В Китае, наверняка, за контракты на рекламу с ним агентства устраивают кровавые бойни.
И правильно устраивают. Он это заслужил.
Плисецкий хочет почувствовать обиду, что надо делиться. Хочет почувствовать жалость к себе. Ни одно из этих чувств не приходит. На месте старого поломанного в трёх местах срастается что-то новое. Что-то похожее на благодарность.
Он не знает, как сказать. Вроде и передатчик есть — говори не хочу. Передатчик-то есть, а слова правильные — это совсем другое.
— Без тебя было как тупыми лезвиями по песку, — поясняет он, зыркая из-под чёлки, слова неуютные и не по размеру, но держаться внутри не хотят. — Не едешь, а тащишься, как придурок, спотыкаешься вечно, звук отвратительный, но вроде двигаешься, да? Медальки там всякие. Классно? А с тобой, я фиг знает, как будто все цветным стало, понимаешь?
Ван Ибо опять слушает его с этим своим серьёзным видом, от которого Плисецкий постоянно про себя орёт дурным голосом, чтоб перестал.
И на этот раз Ван Ибо, как по заказу, перестаёт. Ржёт куда-то в ворот в своей футболки. А потом говорит:
— Юра.
И добавляет:
— Я тебя тоже.
***
Плисецкий утыкается лицом в подушку, обхватывает её обеими руками в воинственной честной попытке задушиться к херам, потому что, честно говоря, нахуй так жить. Между простыней и наволочкой он натыкается на что-то ещё и вспоминает, что футболку-таки скоммуниздил. Да так ловко, что даже совесть не мучила. Он гладит её пальцами.
Поднимается на кровати и жадно вглядывается в темноту. Блэкаут полнейший, не видно ни хуищи. Но это и к лучшему, наверное. И так едет крыша. Он опускает голову к коленям и кладёт руку себе на шею. Как он тогда. Получается вообще не похоже. Ладонь мелкая, холодная. Неубедительно. Два за технику, три за артистизм, ржёт он про себя чёрным невесёлым смехом.
Сидит и мнёт футболку в руках, как придурок. Всматривается в эту сверхплотную темноту и ему на секунду кажется, что с противоположной кровати этот тоже смотрит.
Нет там никого. И ещё очень долго не будет.
После Кубы было херово. Прямо херово, как мог бы чувствовать себя кусок злого мяса, которое забыли убрать в холодильник: внутри кишат паразиты, а вонь отпугивает окружающих.
Плохо было. Расстояние делало хуже. Редкие набеги в мессенджеры делали хуже. Всё это время Плисецкого заботил только один вопрос, который ему не хватало яиц задать.
«Мы когда-нибудь ещё увидимся?»
Поэтому когда Ван Ибо позвал сюда, Плисецкий не думал вообще. Самое лёгкое «да» в его жизни. Самое долгожданное.
Зато в этот раз он не просто не зассал. Плисецкий взял слово, буквально с боем, что они обязательно встретятся.
Ван Ибо посмотрел как-то странно и сказал, что конечно. Что за вопросы? Очевидно же, что да.
И Юра рассказал.
Что пока он сходил с ума в первый раз, он кое-что понял.
— Мы из разных вселенных, понимаешь?
Ван Ибо не понимал.
— У меня вечные проблемы с пространством, а у тебя — со временем. Меня постоянно разрывает среди точек на карте между теми, кому до меня нет дела. Твоё время распродано среди тех, кто по-настоящему тебя не ценит. И где-то среди этих двух невозможностей находится твоё «конечно, что за вопрос».
— Пообещай! — потребовал Юра
И Ван Ибо пообещал.
***
Третья порция молока превращает процесс размешивания теста для блинов в настоящий праздник по сравнению с тем, что было до. Но Юрка не расслабляется, перемешивает всё с тем же усердием, с той же скоростью. Посреди пустой головы проезжается безвоздушная мысль, что надо добавить масло, вечно забывает, но только не в этот раз. Он тянется к ящику. Роста всё ещё не хватает, поэтому он в очередной раз не достаёт. Долго сердито пристраивает вилку, отбегает на секунду и слышит ровно два звука: металлический шелест и влажный шлепок.
Он больше не торопится. Вилка утонула в тесте, придётся лезть пальцами. Кастрюля слишком большая, а вилка обычная. Но кажется маленькой и беспомощной. Ему делается горячо под веками. И как-то неудобно. Ну, утонула вилка и утонула, сейчас достанем, чего рыдать-то?
Он утыкается переносицей в изгиб локтя и с чувством протирает лицо.
Почему-то он вспоминает о немцах.
О том, как они иногда шлют приглашения что-нибудь там открыть и поддержать. Всё в электронном виде. У Юрки на них стоит автоответ: дескать, спасибо, ценю, польщён, сами-то как, к сожалению, беспощадный график, а вам всего лучшего, удачи, здоровья, всех благ.
Вообще, он бы с удовольствием скатался разок-другой. Но правда в том, что очень страшно однажды превратиться в памятник самому себе, в чувака, который единственный раз сделал что-то нормальное и ездит на этом до конца жизни.
Дед иногда зачитывает ему письма, которые приходят с Кубы. Сам Юрка никогда не читает, а деду, кажется, нравится. И письма ��равятся, и испанский нравится, и Клавдия Антоновна, которая взялась его обучать, тоже, кажется, пришлась по душе. Ну, и хорошо, что у него здесь кто-то появился, Юрка этому рад. У него теперь тоже есть. Любимое дело (и даже два!) и кто-то близкий, пусть и далеко.
Накатывает иногда, конечно, вот как сейчас, но в этот раз легче. Легче, когда знаешь, что ему не похуй. Что он там тоже, наверное, думает. Тоже скучает. С кем-то болтает и запоминает самое лучшее, что надо будет рассказать, а потом рассказывает, когда появляется время.
И хочется вроде разозлиться, что не жизнь это, а херня какая-то поставленная на паузу. Но с ним всё равно лучше, чем без него. Как будто всё не зря было. Разбитые коленки, кровь и пот, нервы расшатанные. Как будто все решения, которые он принимал, были нужны, чтобы оказаться здесь: в этой тесной кухоньке, не вмещающей его тоску, с утонувшей вилкой, и чувством, что ты там кому-то нужен. И кто-то очень сильно нужен тебе.
В четвёртом часу пиликает телефон, Юра продирает глаза почти сразу. В ночном режиме исключений всего два. Второе — в лице деда — благополучно дрыхнет в соседней комнате.
От Ибо висит единственная фотка.
Юра долго рассматривает и думает:
«Боже правый, охренеть, это вообще где?»
Он пишет, что Это Вайсензее, в Австрии. Самый большой каток, шесть с половиной квадратных километров. Горнолыжка тоже в наличии. Что отпуск уже через две недели и хорошо бы, наконец, определиться.
Плисецкий вдруг думает глупую сентиментальную мысль. Что мир такой огромный. Что жизнь такая странная. Что он видел недавно пару отличных коньков, и какой же дурак, что засомневался и не взял. Что пора украшать дом к Новому году, а то они с дедом в этот раз потратили уже все сроки. Что Ибо, скорее всего, тоже задарит ему какую-нибудь снарягу. Он почти уверен, что сноубордическую.
Ван Ибо продолжает строчить. Присылает фотки со съёмок и комментирует те, что Юрка наприсылал за день.
Юра не перебивает. Он вчитывается, с нежностью проводя пальцем по каждому из сообщений. Дотошно рассматривает каждую из фотографий, сделанных лично для него. А потом пишет, что Вассензее звучит отлично, и завтра берём билеты. Пишет недовольное, что Ибо мог бы нафоткать и побольше. Пишет, что постоянно думает о нём и скучает. Что крайние две недели всегда самые паршивые, но они обязательно со всем справятся.
— Я тоже, — пишет Ван Ибо. — Ты даже себе не представляешь.
А Плисецкий берёт и представляет. Потому что у него также. Также плохо и хорошо. Но когда понимаешь, что вас таких двое, становится чуточку легче.
Он подходит к окну и прикладывает ладонь к стеклу. Оно ледяное, а руки у Ван Ибо обычно горячие. По контуру пальцев пробивается ржавый свет фонарей. Юра делает быструю фотку, кривую и немного зернистую, а потом скидывает в чат. Через секунды Ван Ибо присылает такую же.
Юра улыбается. И, засыпая, чувствует, как его чёрная, истлевшая до золы тоска, наконец, измученно отступает перед рассветом.
2 notes
·
View notes
Text
Плодовое тело

«Ты вошел не в те двери,
перепутав цвета,
и теперь
и теперь
все как будто не так»
«Media vita in morte sumus»
Дом похож на кишечник, этажи — его петли, лестницы — слизь, которая их выстилает. Краска вспухает на стенах частичками отмершей кожи. На улице холодно, кожа дома сохнет, ей нужен уход, но его нет — ни ухода, ни выхода, ни прихода. Дом реален. Тусклые окна смотрят и не видят, двери подъездов раскрыты день и ночь — разбитые губы распахнуты. Дом реален. Он дышит подъездным ртами, всасывая воздух и людей, чтобы многоэтажный, пропахший сигаретным дымом кишечник пришел в движение. Если кажется, что дом этот как человек, — с кишками, слизью, кожей, глазами и губами, — то кажется зря. В нем нет человеческого.
Ни капли.
Ни грана.
Вот что самое главное.
Главное теперь знают все, кто внутри, но это не помогает. Все, кто внутри, уже не такие, какими были снаружи. Юрка идет по лестничной слизи. Она твердая, как бетон, потому что ей нравится эта игра. Юрке — нет. Он смотрит в окно, стекло затянуто грязью, как пленкой старческой катаракты. Юрке не повезло, он вышел к слепому глазу, однако снег на улице все-таки видит. Снег валит хлопьями, у Юрки болит язык от желания выпить его досуха, и не потому, что мучает жажда. Снег снаружи. У него привкус свободы.
Ван Ибо все еще помнит, что такое свобода. Шагая меж теплых, пульсирующих стен, он говорит себе, что свобода — не только открыть дверь и выйти в холод и ветер, в снег и ночь. Ван Ибо говорит себе, что свобода не только снаружи, и что пока он помнит, кто он такой, ничего не потеряно. Он видел тех, кто забыл. Их трудно не заметить. Ван Ибо шагает между пульсирующих стен, не прикасаясь к ним, хотя так темно, что идти приходится на звук. Ван Ибо кажется, что этот звук — стук сердца, и, если повезет, не его собственного. Он молится, сам не зная, кому, чтобы повезло.
Везение — это все, что осталось. Так Юрка думает, стоя на лестничной площадке, г��е раньше были двери, три штуки, ровно три, Юрка помнит это столь же ясно, как свое имя. Теперь дверей нет, и лестничная площадка заканчивается круглой аркой, вырубленной в кирпиче, за ней темно и влажно. Подвал? Что ж, возможно. Вырастить подвал на шестом этаже для дома — раз плюнуть. «Как давно он превратился в это? — думает Юрка. — Как давно вызревал под нашим боком?» Дом отвечает плеском воды. Юрка облизывает губы и пробует свой голос на вкус:
— Ибо? — тьма отвечает эхом, размноженным «бо», кажется, так звучит сокращенный вариант его имени, так, наверное, его звали в детстве, на родном языке, с каким-нибудь дурацким суффиксом после. Юрка уже знает, что у китайцев так. И пока эхо зовет Ван Ибо, как мать, отец или тупой иностранец, неспособный ни сказать, ни услышать правильно, Юрка собирает волю в кулак, собирает жопу в горсть, собирает все, что от него осталось, и делает шаг.
Ван Ибо останавливается, чтоб потопать в то, что еще несколько часов назад точно было бетонной плитой. Теперь там может оказаться что угодно. Дом успевает измениться в одно моргание, несколько часов для него — вечность, за которую он мог бы вырастить новый этаж, новую лестницу, новый подвал и даже новую китайскую стену. Так что Ван Ибо пробует пол. Темнота абсолютна, и он теряет разницу между нею и слепотой, спина и подмышки мокнут от пота. Тут не жарко. Просто в темноте может спрятаться кто угодно, кроме того, кого Ван Ибо так хочет найти. Юрка не стал бы прятаться, он бы кричал и ругался в голос, он не умеет по-другому. Юрка позвал его на спектакль, сказал, по театрам не шастает, но для Ван Ибо сделает исключение, сказал: «Это «Контраст», охуенная вещь, кто был, кипятком ссутся от восторга», сказал: «Только зайдем тут, билеты взять, официально уже не купишь», а теперь:
— Юра? — зовет Ван Ибо, но темнота не жалует его даже эхом.
«Это не подвал», — вот о чем думает Юрка, глядя на блики, бегущие по бесконечной глади воды, блики, рожденные без света. Вода бьется в кирпичные стены, плещется, качая человеческий труп, как плохо спящего, больного ребенка. Труп плавает лицом вниз, руки и ноги раскинуты звездочкой, Юрка не хочет приглядываться и узнавать его, но все равно узнает. По одежде. Это тот самый хрен, имя которого Юрка никак не мог запомнить — Сеня? Паша? Саламат-Ебаный-Паги? — тот самый хрен, с которым свел его Гошка, чтобы купить билеты. У Гошки было такое дурацкое лицо, слащавое какое-то, глупое, пиздец, и слово «свидание» он произнес так, что у Юрки скулы свело. Какое, нахрен, свидание? Это у Гошки сопли там всякие с каждой его новой пассией, цветы-конфеты-хуеты, ровно до тех пор, пока она от скуки на стенку не полезет. А у Юрки все как надо: два крутых пацана идут культурно провести время. Чего б и нет? Это все равно лучше, чем дрочить на фото с его тренировок, «глянь, че могу», ну глянул, кафель в ванной потом оттирать пришлось. Чемпион Китая по брейк-дансу, один из лучших, на такого дрочить не стыдно — так Юрка себе говорил, а Гошке ничего говорить не стал. Не совсем мозги отшиб в самом деле. Но хотелось, конечно, хотелось на каждом углу кричать, что к нему приезжает сам! Ван! Ибо! Настоящий, из мяса и костей, из крови и тугих жил, живой и теплый. Главное, не напортачить, вот о чем Юрка думал, не проебать шанс и все сделать правильно, тогда может что и получится, чтобы надолго, чтобы как у нормальных людей, а не типа Гошки, Никифорова или Милки с ее хоккеистами.
— А чо, — булькает труп, с громким хрустом поворачивая голову на сто восемьдесят градусов, — я вот нормальный… не этот, как его… Гомифоров?
Сложив губы трубочкой, он выпускает фонтан воды изо рта, как кит.
— Иди нахер, Сеня, — сипит Юрка, не узнавая своего голоса. — Спи спокойно, а?
— Я Саша, — обижается труп, — а ты гондон, но билеты тебе я… все-таки… продал.
Нахуй бы не нужны были эти билеты, вот о чем думал Ван Ибо, когда они, спрятав лица в шарфах, бежали к этому Юркиному знакомому или кто он там был. Снег колол лоб и щеки, Юрка несся рядом, как нахохленный воробей, и Ван Ибо очень хотелось сказать, что спектакли — это круто, но может потом, а сейчас пофиг на все. После стольких месяцев, когда они могли только переписываться и созваниваться, когда редкие встречи считались удачными, если удавалось сказать что-нибудь подлиннее «приветкакдела». После стольких ночей, в которые надо было спать хотя бы пару-тройку часов, спасенных от тренировок, но Ван Ибо не спал — засматривал до дыр Юркины прокаты и личные фотки, выпрошенные хитростью или взятием на слабо, когда выучивал наизусть каждое выражение лица, каждую родинку или прыщик. После этого, ей-богу, пофиг на все. Вот Юрка, упакованный в бесформенный пуховик, и наверняка такой горячий под ним, может, немного вспотевший, настоящий до одури, хватай и грейся каждым чертовым нервом, впитывай, как бесценную воду в пустыне, — какие нахуй спектакли?! Ван Ибо даже открывал рот, чтобы выпустить этот крик души как есть, но страшно было спугнуть — за свою крутизну Юрка держался как больной, в его стране ей угрожал каждый чих, а если бы Ван Ибо сказал прямо, чего и в каких позах хочет, увидел бы Юрку еще хоть раз в жизни не в записи очередного проката? Потому и молчал. Придурок.
— Юра! — зовет Ван Ибо, дом выращивает под его ногой груду хлама: что-то шуршит, гремит и катится. Не важно. Главное, не трогать стены, даже если упадешь, потому что в стенах — те, кто забыл себя. Ван Ибо уже видел, как вспучивается краска, когда они растут, словно опухоль, и формируют лица. Лица сминаются, будто грибы-дождевики, если их потрогать, выдыхают облако пыльной трухи изо рта и исчезают. Трухой нельзя дышать. Нельзя касаться лиц. Главное, держаться подальше. Ван Ибо понятия не имеет, сколько времени тут провел.
— Время? — труп снова выплевывает фонтанчик воды. — Забудь! Время для тех, кто снаружи, а мы никогда уже такими не станем. Просто не сможем.
— Твои «никогда» только тебя и ебут, Паша. По понятной причине. А мы выберемся.
— Я Саша! — обижаться труп перестал три или четыре вопроса назад, но поправлять все равно стремился, хотя вряд ли ждал, что это даст какой-нибудь результат. — И ты совсем тупой, да? Мы где, по-твоему, находимся? Выберется он! Пережеванная еда может выйти с рвотой, разложенная на молекулы и усвоенная организмом — нет.
— Типа ученый, что ли?
— Типа биологию преподавал.
— А это, — Юрка взмахивает рукой, очерчивая отсыревшие кирпичные стены, облака пара над водной гладью, просевший от влажности потолок, — биология? Ты серьезно?
— Серьезно. Георгий говорил, что ты в школе так себе учился, не то, чтоб глупый, но тренировки, все дела… Ну, пришло время восполнить пробел в твоем образовании.
— В себе пробел восполни, трупак ебаный!
— Я Саша! И короче, дело такое: грибы — это не сами по себе растения, как лопух там или крапива, грибы — как бутон цветка, типа орган для размножения, понятно? Плодовое тело грибницы. Она их выращивает, чтобы распространить споры. Создать их и развеять по ветру. Только по ресурсам это недешево, нужно много питательных веществ, следишь за мыслью?
— Ты совсем тут чокнулся, да?
— Почему это?
— С хуя ли про грибы-то гнать?
— А. Так ведь дом этот и есть плодовое тело грибницы! Не той, что обычно в лесу бывает, другой какой-то, хер ее знает, откуда взялась. А только дом она возвела. Старый, людьми построенный, медленно разрушала и заменяла тканью плодового тела, оно поедало всякую мелкую шушеру — тараканов там, мышей, муравьев, пауков, когда и кошек с маленькими собаками. Ты не знаешь, пропадали тут… Короче, оно выросло, а вы все теперь источники питательных веществ для спор и в будущем их разносчики.
— Хуйня какая-то, — сомневается Юрка и с трудом угадывает смех за бульканьем и хрустом скрученной шеи. Шаг назад получается незаметным для него самого. Пот течет по вискам. Жарко. Здесь жарко и влажно, в этом все дело.
— Думаешь, если одним куском прибежал, так и не корм еще? — отсмеявшись, говорит труп. — Воздух тут напитан кое-чем, что превращает людей в часть плодового тела. Пока малую, но погоди и будешь, как я: полноценным носителем спор, внешним оком грибницы!
«Бля», — думает Юрка. Хруст делается громче, на трупе вспухают огромные волдыри и формируют лица. Труп вот-вот лопнет, — три секунды, две, одна, — и ноги сами несут Юрку прочь. Чей-то истошный вопль звенит в ушах, но только по боли в натруженном горле он понимает, что вопль этот — его собственный.
Лестничная площадка давно уже превратилась в длиннющий коридор, Ван Ибо кажется, что конца не будет ни ему, ни этой абсолютной тьме. Он прокладывает путь наощупь, каждым шагом приближая себя к чему-то или кому-то. Ван Ибо очень хочется думать, что к Юрке — и он позволяет себе такую роскошь: думать о Юрке, а не о подъездных дверях. Не о выходе, не о побеге, по крайней мере, в одиночку. «Одиночки», как кажется Ван Ибо, не существует с тех пор, как он назвал Юрке свое имя, приехал, урвав неделю от праздничных выходных с родителями, пошел на спектакль, даже не спросив, о чем он. Ту часть себя, что жалеет об этом, Ван Ибо еще может заткнуть, но шаг за шагом это становится все труднее. Как же глупо они потерялись! Взяли билеты, вышли из квартиры того парня, Ван Ибо никак не мог вспомнить его имени, а потом Юрке показалось, что он выронил там ключи, пока доставал телефон, чтобы расплатиться. «Подожди тут, я ща», — вот что он сказал перед тем, как исчезнуть за черной стальной дверью, превратившейся в стену. А телефон был полезен только как фонарик и то недолго, окна не бились — ��текло оказалось чем-то вроде упругой мембраны, которая гнулась, но не рвалась, — помощи ждать было неоткуда. «Я найду тебя, — думает Ван Ибо, вспоминая яркие глаза, светлые волосы с той же стрижкой, какая была и у него не так уж давно, вспоминая каждую родинку, каждое выражение лица, каждое слово и жест. — Я найду тебя живым». Но теперь верить в это сложнее, чем не жалеть.
— Юра! — зовет он, и от звука собственного голоса становится немного спокойнее. С последнего крика будто вечность прошла, а любого другого голоса он не слышал, наверное, все три вечности разом. Ничего, кроме шорохов, стуков, скрипов, ничего — в непроглядной тьме.
Коридор изгибается, и Ван Ибо не верит своим глазам, потому что он видит каждый кирпич, каждый шов с высыпающимся старым цементом, маркерные надписи у дверей, которые вовсе не двери, но сейчас это не важно, — дом вырастил окна! А за ними снег, люди, фонари и голые деревья тянутся к черному небу. Ван Ибо думает, что Юрка, возможно, смог выбраться и теперь там, снаружи, и скоро приведет помощь. Ван Ибо смотрит в ночь, и от желания выпить досуха каждую снежинку у него болит язык.
«Поторопись», — вот о чем он думает, когда Юрка выскакивает из ниоткуда с диким воплем, растрепанный и мокрый. И Ван Ибо вздрагивает, не верит глазам, а потом:
— Что? — все языки, кроме родного, вылетают из головы, он даже не слышит себя. — Что с тобой?
Юрка кричит и кричит. Ван Ибо прижимает его к себе, но это не помогает, и выбора не остается. Чуть отстранив его, Ван Ибо вдыхает поглубже — и орет уже сам, без единого слова, прямо Юрке в лицо.
— Ебнулся? — спустя бесконечную минуту тишины, спрашивает тот. Сорванный голос почти неслышен.
— А ты? — с облегчением выдыхает Ван Ибо.
Юрка пожимает плечами, вертит головой, оглядывая двери-не-двери, паутину в углах и на потолке, окурки, которые выскочили на полу, как прыщи на подростковой коже.
— Сходили, блядь, на спектакль…
Ван Ибо кивает:
— Вообще пиздец.
Его рука лежит на Юркином плече, и он чувствует, как того трясет под одеждой. Может, от шока, но может и от холода. Ван Ибо распахивает полы куртки и говорит:
— Иди сюда.
Но Юрка фыркает, не двигаясь с места, так что приходится подтащить. Он не спешит отбиваться, только сиплое ворчание бьется в грудь потоком тепла:
— Дал бы хоть шмотки снять, оба же околеем, как цуцики.
— Успеешь еще.
— Вот сейчас сам промокнешь, тоже раздеваться придется…
Ван Ибо усмехается в Юркину макушку:
— Да я не против.
За окном воет метель, что-то стучит за стеной, но в остальном коридор тих. Юрка возится под курткой и выдыхает чуть слышное:
— Правда?
Ван Ибо кивает:
— Если поможешь, — и вздрагивает, когда острые зубы прикусывают мочку его уха.
— Помогу, — шепчет Юрка, зализывая укус, — чего бы и не помочь хорошему человеку?
Влажные пальцы пробегают по ремню Ван Ибо, раздергивают пряжку, вжикает молния ширинки.
— Юр, Юр, стой!
— Не хочешь?
— Хочу. Но… ты точно уверен?
В шуршащем коконе куртки его смешок неотличим от всхлипа.
— Мы, может, сдохнем тут, — и шепот горячечно быстр, — по-настоящему сдохнем, насовсем, через минуту, час или день, кто знает. Как ты хотел бы сдохнуть, Ибо? Я вот знаю, как не хотел бы — с сожалением о том, на что не решился, и вообще… Пока мы живы, дай сделать то, о чем я мечтал с тех пор, как тебя увидел, потому что я точно уверен, что буду жалеть, если не сделаю.
«Я тоже», — думает Ван Ибо. Не так он это представлял, когда заказывал билеты в Россию, но какая разница, если Юрка прав? Они больше не могут позволить себе делать вид, что впереди вечность на сомнения и недомолвки. Теперь все очень просто — делай или не делай, только быстро, пока вокруг относительная тишина. И Юрка выбирает делать, а Ван Ибо:
— Да, — шепчет он, — хорошо, — шепчет он, — но мне бы тоже хотелось…
— Сначала я!
Стук за стеной усиливается, и Ван Ибо не спорит, когда Юрка опускается на колени в пыль и окурки. Руки у него холодные, но рот — горячее самого жаркого сна, Ван Ибо не может сдержать стона, когда этот рот надевается на его член. Пальцы сами вплетаются в светлые волосы, сжимают в кулаке, — так не исчезнет, так не отнимут, — и Ван Ибо двигает бедрами, наконец позволяя себе забыться.
— НЕТ-НЕТ-ИБО-НЕТ! — Юрка колотит в стену, прозрачную, как стекло, но твердую, как бетон, кулаки разбиты в кровь, все вокруг в их красных следах. — БЛЯДЬ-ИБО-СУКА-ВЫНЬ-ГЛАЗА-ИЗ-ЖОПЫ! ЭТО-НЕ-Я-А-А-А-А!
Крик бьет в собственные барабанные перепонки так, что в голове начинает звенеть. Но Юрке плевать. Звон, боль в руках, опухшие от злых слез веки — слезы еще текут по щекам, да он их уже не чувствует, — Юрке плевать на все, кроме ебучей стены. Он бы и головой в нее постучал, даже с разбега, если б хоть на одну сотую верил, что это поможет.
— Это не я! — хрипит он, когда голос отказывает и в горле рождается боль. — Не я! Не я! Не я!
Взорвался ли тот хрен в воде, Юрка не знает — он бежал, не оглядываясь, бежал, пока не наткнулся на тупик, весь расписанный маркером. Раньше надписи, вероятно, были обычной матерной хренью, а теперь с каждого сантиметра стен, пола и потолка взывало плодовое тело грибницы: «sпоRrRы — жиZнь», — вот о чем оно говорило, а еще — «nоSsSитеLь sпоRrR поLу4иt вzzzе», и — «4tо hHhо4ешь tы» Юрка хотел, чтоб эта с��ань провалилась туда, откуда вылезла, и желательно навсегда, но плодовое тело услышало в его мыслях кое-что поважнее. Вот тогда стена и стала прозрачной, но только с одной стороны — и как бы Юрка ни орал, сколько б ни разбивал кулаки, Ван Ибо не видел и не слышал его. Зато Юрка различал каждый шорох, вздох и стон, каждое влажное чмоканье и собственное имя, которое срывалось с губ Ван Ибо тем хриплым шепотом, о котором Юрка мечтал месяцами.
— Не я, — шепчет он, когда уставшие руки отказываются подниматься, — не я, не…
Красные отпечатки кулаков приходят в движение, — слипаются и гнутся, как живые, пока не сползаются в: «nоSsSитеLь sпоRrR поLу4иt вzzzе», и: «4tо hHhо4ешь tы». За кровавым узором Ван Ибо откидывает голову в оргазме, сжимает волосы подделки с такой силой, что белеют костяшки пальцев, и стонет Юркино имя. А Юрка кричит:
— НА ХУЙ! — голоса нет, крик получается жалким сипением, но и на это уже плевать. — ИДИ НА ХУЙ! ВОТ ЧЕГО Я ХОЧУ! ЗАСУНЬ СВОИ СПОРЫ СЕБЕ В ЖОПУ И НАХУЙНАХУЙНА…
Холод стелется по спине, как шершавый мертвый язык, холод обвивает ноги, и Юрка оглядывается инстинктивно — там открытая подъездная дверь. Ветер наметает снег на порог, с переливающейся фарами дороги долетают гудки машин, спрятав лица в воротники, люди идут под желтым фонарным светом. У Юрки подгибаются ноги, но он все равно делает шаг вперед. Шальная снежинка падает на нос и тает, Юрка стирает ее пальцем и сует в рот. Он думает о дедушкиных пирожках, о пушистой Пётиной шерстке, о гладкости льда на катке и даже о надоевших до оскомины окриках Якова. Ноги сами делают второй шаг к двери.
— Юра, — шепчет Ван Ибо сраной подделке, — мой Юра…
— Нет, — у настоящего Юрки нога пристывает к полу, третьего шага не получается, — нет, нет, нет!
— 我的弟弟, — шепчет Ван Ибо за его спиной, — 我的…
Юрка сгибается так, будто шепот этот — пинок в живот. Юрка сгибается, и жуткий сиплый вой вырывается из груди.
«我的弟弟», — он знает, что это означает, потому что начал учить китайский с того самого дня, как Ван Ибо назвал ему свое имя. С того самого дня, когда и Ван Ибо стал учить русский: «Хочу с первого раза послать тебя так, чтоб ты понял» — вот что он говорил и ржал, как ебучая гиена.
Юра, мой Юра
Снег вьется в воздухе, прячется от тепла в Юркиных волосах, но и там превращается в воду. Холод щиплет за мокрые щеки.
我的弟弟
Там, за гудками машин, за бегущими тенями прохожих, ждет дедушка. Он, наверное, готовит ужин, потом будет смотреть телевизор, а Пётя уляжется на его коленки и замурлычет. Юрка сказал, что останется у друга, так что они уснут спокойно, а может быть, даже порадуются, ведь у их нелюдимого Юрочки наконец появился друг.
我的…
«Я найду тебя, — думает Юрка и шмыгает носом. — Я найду тебя живым, понял, сучий Ван Ибо?! И мы вместе… вместе…»
Те прохожие, что расслышали почти безмолвный сиплый крик, оборачиваются и видят: в подъезде белеет измученное человеческое лицо. Но стоит им моргнуть, как оно исчезает в густой темноте, пропахшей куревом и, наверное, кошками.
0 notes
Text
Кошки в темноте
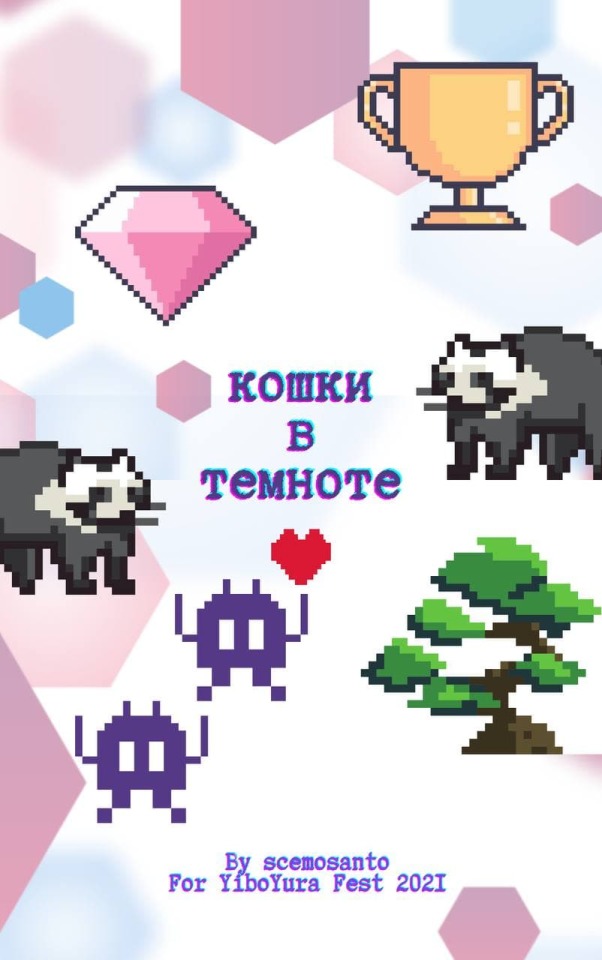
Ну не вышло и не вышло. Ладно. Бывает. Не последний же раз. Ничего. Сейчас напьется у Григория и полегчает, а потом опять. Давай по-новой, Юра, все хуйня.
Юра залетел в лифт и грохнул рюкзаком по стене. Кабина качнулась, над потолком звякнула, судя по звуку, какая-то цепь. Юра нажал на кнопку, а потом еще нажал на нее раз восемьдесят, потому что двери не закрылись сразу, а делали это медленно, как будто никто тут никуда не спешил.
Возьми себя в руки.
К 11 этажу даже почти получилось. Перед дверью съемной Григориевой квартиры висело зеркальце с полусодранной наклейкой в виде ромашки, причем висело невысоко, даже Юре нужно было немного нагнуться, чтобы увидеть в нем свое отражение. Ну ладно, ебало как ебало. Так, в общем, уже и не скажешь, что с проб.
Григорий открыл лично, дохнул привычным дымом кутежа.
— Я смотрю, вы тут уже тряпки жжете, — поздоровался Юра, протискиваясь мимо него в квартиру.
— Только пока не смеемся, тебя ждем. Чего глаза красные?
— Аллергия на ебланов, таблетку забыл принять.
Григорий бесил иррационально, и от этого — сильнее. Ни в чем он не был виноват, а лучше бы был. Пока Юра вылезал из пуховика и кроссовок, мимо пронеслась Мила, мазнула волосами по щеке — Плисец, привет. Григорий поискал для виду тапки, но быстро на это забил.
— Сейчас я тебе налью, а то такой день сегодня, — сказал он, утаскивая Юру сразу на кухню. — Такая жалость. Никто из нас не ожидал, Юр.
— Чего? — Переспросил Юра, чувствуя, как мышцы шеи обращаются в камень. Они что, знают? Он никому не говорил.
Григорий повернулся к нему и поставил на стол стакан.
— Нужно обязательно выпить. Ибо...
Он торжественно и надолго замолчал. Юра смотрел на него исподлобья, но скоро не выдержал. Вот прямо сейчас совсем не в кассу был этот его театральный лексикон.
— Ибо что, блядь?
— Ты, как всегда, портишь момент, — расстроился Григорий и махнул рукой в направлении комнаты. — Ибо побил твой рекорд в гонках. Помнишь, когда ты накуренный набрал там дохуища очков?
— Кто побил-то, я не понял?
— Ибо! Ван Ибо. Китаец этот из твоей общаги, помнишь?
Юра помнил. Китаец жил на его этаже и обратил на себя внимание двумя вещами. Во-первых - тем случаем, когда во время пьянки девчонки проебали ключ. Китаец — Ибо — постоял на ноябрьском ветру, слушая, как соседка объясняет ситуацию на кривом английском, а потом кивнул и ломанулся в здание. Юра решил, что он ее не понял и сейчас вернется, но через несколько минут Ибо мелькнул в окне третьего этажа и пролез на четвертый по балкону. Как паук. Потом позвонил охеревшей соседке с вопросом, где ключ-то искать. Искал еще минут 20, пока ключ не обнаружился у нее в кармане. Проходя мимо стены общаги днем, Юра непроизвольно смотрел на балкон и чувствовал, как сердце ухало вниз, а кожа как будто чесалась изнутри.
Второе, что выделяло Ибо из толпы — он был пугающе похож на Юру. Ну, если бы Юра был высоким азиатом. Юра не был, если не считать каких-то очень далеких корней по материнской линии, но тем сильнее напрягало сходство.
Юра не глядя выпил чего там ему Григорий налил в стакан, поморщился и направился к приставке.
Ибо сидел на диване, раскинув свои длинные, в камуфляжных штанах, ноги. Откуда вообще китаец такой длинный, подумал Юра, и еще подумал: that's what she said.
— Охуел совсем, — сказал Юра вместо приветствия, плюхнулся на противоположную часть дивана и потянулся к геймпаду. — Щас я тебя разъебу.
Ибо серьезно кивнул. Насколько Юра успел понять, по-русски он не говорил даже на уровне привет-пока. По-английски ненамного лучше, но все-таки как-то.
— Фак ю ап, капишь? — Продублировал Юра, — Май, эээ, рекорд. Воз. Нау, ай вин.
Ибо снова кивнул, и Юра заподозрил, что так-то он его с первого раза понял.
— Ай олвейз вин, — сказал Ибо, и добавил: — Камон.
До победы оставался один раунд, и Юра был в себе уверен. Он проебал все на свете, включая сраные эти пробы, зато его ждала блестящая карьера в киберспорте. В жопу искусство. Даром что последней не опробованной ими с Ибо соревновательной игрой, какие у Григория были, оказалась древняя гитар хиро.
Победу из вцепившихся в гриф игрушечной гитары рук Юры вырвала судьба. Судьба вырубила свет.
— Ну что опять такое, — протянула из-за спинки дивана Мила, которая большую часть времени наблюдала за марафоном. Болела, правда, за него и за Ибо в равной степени.
— Третий раз за неделю, — сообщил голос Григория с неожиданной гордостью, как будто проблемы с электричеством были его рук делом, и постарался он на славу. — Причем отрубает сразу во всем районе.
— Свечки-то есть у тебя, не знаю, какие-нибудь? — Спросил Юра.
— Да были…
Все принялись искать, освещая дорогу фонарями на телефонах. Юра думал было присоединиться, но, когда включил свой, в луче света оказалось лицо Ибо, и Юре не понравилось это лицо. Ибо сидел на прежнем месте, обхватив локти, и сосредоточенно смотрел в пространство. От яркого света он заморгал, но больше никак не пошевелился.
— Эй. Ибо, — позвал Юра и толкнул его ногой. — Ю окей?
— Окей, — ответил Ибо со смешком, и бездна уверенности в его голосе убедила Юру в том, что свечки точно найдутся и без него. Не стоило покидать этот диван.
Нет, нужно было немедленно покинуть этот диван, оставить Ибо наедине с его очевидной панической атакой. Не приближаться никогда.
Юра осторожно положил телефон на пол, фонарем вверх, и подсел к Ибо ближе.
— Вер из ер фоун? — спросил он. Ибо озадаченно блеснул глазами. Юра вздохнул, и принялся объяснять, в надежде, что его мысль доберется до Ибо сквозь мясорубку языкового барьера: покажи мне свои самые тупые видосы.
— Ютуб. Кэт видеоз. Или что там тебе нравится.
Тянуло заржать. Несмотря на внутреннюю борьбу и эмоциональный накал ситуации, все-таки Юра сейчас выглядел как человек, отжимающий мобилу ради видео с котами.
До Ибо, впрочем, быстро дошло.
— Но кэт, — сказал он, — Мотосайкл.
Бля, ну что же еще. Юра чуть отвернулся, чтобы зажмуриться, поморгать, выдохнуть. Нормально.
— Давай, врубай моторсайкл. Гоу он.

Гениальная Юрина идея чуть было не пошла прахом, потому что хреново тянул интернет — видимо, то, что обесточило район, на мобильной связи тоже сказалось. Но моторсайкла у Ибо и в памяти телефона оказалось достаточно, хватило, пока остальные не организовали свечи. Стало относительно светло и зловеще. Ибо, казалось, попустило, к нему даже вернулся на некоторое время соревновательный азарт. Потом — азарт какого-то другого рода, когда сыграть решили в бутылочку. Юру чмокнула в нос Мила, а вот Ибо со всей серьезностью засосал Григория под улюлюканье девчонок. После этого народ стал пересказывать, с великодушным переводом на ломаный английский, любимую крипипасту, а Григорий даже изобразил умеренно убедительный грим. Ибо немедленно погас и через некоторое время снова обхватил локти.
— Да ну их нахуй, — сказал Юра, утащив Ибо на кухню под предлогом намутить еще выпивки. Сформулировал кое-как: хочешь, пойдем в общагу? Тут идти всего ничего. Там, правда, тоже света не будет.
Ибо согласился. Юра распрощался, наплел с три короба про поездку к бабушке — у себя, и ранние репетиции — у Ибо. Насчет последнего ткнул пальцем в небо, но, судя по тому, как отреагировали, попал. Чем еще Ибо мог тут заниматься с таким английским.
На улице Ибо заметно полегчало.
— Спасибо, — сказал он, когда молчание подзатянулось.
— Фобия сакс, — заметил Юра, и рассказал про свои отношения с высотой, и о том, что фишку с видео изобрел, чтобы выносить многочасовые перелеты и турбулентностью. Ибо послушал сочувственно и добавил, что сам, помимо темноты и ужастиков, боится еще чего-то. С помощью пантомимы удалось выяснить, что насекомых, но удалось не сразу — у Юры аж слезы на глаза навернулись от смеха, пока Ибо изображал гусеницу.
До общаги дошли действительно быстро, и Юра поймал себя на мысли, что хотел бы идти подольше. Может, не по темноте. И чтобы бутылочка иначе повернулась, чего ей стоило. Одновременно хотелось за такие мысли уебать себя этой бутылочкой по зубам.
У подъезда Ибо остановился и с сомнением посмотрел на зияющую темными окнами общагу.
— Кэт видеоз? — Предложил Юра.
Ибо кивнул.
Юру разбудил звонок. Он нашарил телефон, поражаясь, как зарядка вообще дожила до сих пор. Не сразу попал по кнопке.
— Доброе утро, Юр, а почему трубку не берем? — Бодро поинтересовался Никифоров.
— Нашествие инопланетян. Полгорода без света сидит, связи не было.
— А. Ну, я-то не знаю, я не в России.
— Поздравляю тебя, — Юра глянул на время. Шесть утра. — От души.
— Это я тебя поздравляю, только худруку перезвони сам, будь добр. Я тебе все-таки не агент и не мама, вопреки всеобщему заблуждению.
Юра сел на кровати.
— В смысле. Подожди. Чего?
Никифоров в трубке вздохнул.
— Ты им понравился, Юр, они хотят посмотреть тебя еще раз, вместе со звездой, наверное. Только постарайся теперь сразу не убегать.
— Х. Хорошо. Чего?
— Вот и славно.
Никифоров отключился. Юра уронил руку с телефоном на одеяло и собирался было уставиться в стену у кровати вот уже полсеместра как отсутствовавшего соседа, но не получилось. С соседской кровати на него смотрел заспанный Ибо.
— Самсин хэпенс? — Спросил он. Видимо, интересное у Юры было лицо. Юра вспомнил, как после слайдшоу фотографий оставшейся в Питере кошки его понесло, и он рассказывал Ибо о своих балетных страданиях. О том, как бросил все и год пытался пробиться к Полынскому, как убивался в зале, как в последний момент благодаря Григорию просочился на прослушивание в “Контраст” — и провалился, испугался сцены, как ребенок. А это же не спорт. Тут на одной технике не выедешь. Поэтому отныне до конца своих дней он будет играть массовку в российских сериалах. Говорил ему Никифоров — который, кстати, нахуй пошел, но говорил же.
Ибо в свете фонарика смотрел на него как-то странно. Потом просил показать еще видео со старых репетиций и тренировок. Показал что-то свое, пока телефон не сдох. У него как раз идеально все было для “Контраста”. Юра ему об этом сказал, Ибо снова посмотрел непонятным взглядом. Юре хотелось увидеть вживую. Об этом он тоже решил сообщить. Ибо, криво, но с чувством сказал, неожиданно удачно произнеся фамилию, что Полынский сумасшедший, если Юра не получит роль.
— Я получил роль, — ошалело сказал Юра. — Велл. Секонд аудишен.
Ибо просиял от этих новостей и принялся сыпать комплиментами — медленно, за счет английского, но верно. В этот раз Юра к ним повнимательнее прислушался. Ибо говорил со знанием дела. Со знанием роли. Знанием, видимо, “Контраста”. Для обсуждения хореографии лексики у него хватало.
Юра слушал его, спрятав лицо в руках. Потом остановил:
— Ибо.
Как бы так спросить. Ты что, играешь в “Контрасте”?
Ты что, серьезно играешь в “Контрасте”, и будешь не просто соседом теперь по этажу, и мне придется действительно что-то думать — о том, как ты молчишь, когда боишься темноты, как изображаешь гусеницу, как смотришь на экран и на меня. Как цепляешься пальцами за обшивку балкона, как под кроссовком дрожит кирпичный выступ.
Будет-то только хуже.
— Ар ю ин “Контраст”?
Ибо кивнул.
— Пиздец.
В какой-то момент Ибо с соседской кровати переместился на корточки перед Юрой, и вдруг похлопал его через одеяло по лодыжке. Наверное, ободряюще.
А потом сказал, ухмыляясь: не бойся, я не кусаюсь. Если не захочешь. Посмотрим.
К тому моменту, когда Юра подобрал свою челюсть, Ибо был уже почти за дверью.
🐈⬛🐈⬛🐈⬛Контраст🐈⬛🐈⬛🐈⬛
Мало кто, впервые столкнувшись с серьезным театром, знает о нем главную секретную вещь. Юра знал, потому что в серьезном спорте она была та же самая: девяносто процентов времени тебе очень скучно. Ты постоянно чего-нибудь ждешь. Пока освободится каток. Сцена. Пока поставят свет. Пока уберут. Прогон пятиминутного отрывка — нет, стоп, свет. Костюм. Все ждем [Режиссер]. Крепим тросс к Ибо. Отцепляем Ибо от тросса. Ибо болтается на заклинившем троссе, изображая сначала карикатурные балетные взмахи, потом полдэнс. Где-то Юра такое уже видел.
Юра к скуке так и не смог привыкнуть. Ну или привычка до сих пор была спортивная — в каждую минуту бездействия он начинал пережевывать свои движения и игру. Режиссер не очень помогал. Ибо по роли много летал на троссах, Юра — падал, скользил на коленях, корчился на сцене.
— И-и-и рухнул! Рухнул, Юра, я сказал. Еще раз.
Он был не зверь, на самом деле. Ничего общего со спортивными тренерами. Тогда, на первом кастинге, Юра был уверен, что не прошел, из-за его недовольного лица, но выяснилось, что оно просто у него такое. Он был болезненно тощий, осторожный, совершенно не от мира сего. Непонятно было, как такой блеклый мужик мог ставить на сцене это буйство. Он старался, искал способы объяснить словами. В какой-то момент сказал — как Полунин. Юра заржал. В другой раз: как на лед.
Все дохуя хорошо помнили, как Юра ложился на лед, но как-то пропускали, что на льду, в движении, это просто. По сравнению с балетом лед — детский утренник. По сравнению со льдом балет — как проснуться связанным в гробу.
Кто-то должен ему был задать вопрос, Юра этого с остервенением ждал, но никто не спрашивал. Даже Никифоров в свое время только задумчиво кивнул. Когда у Никифорова в отношении тебя просыпается чувство такта, это плохой знак. А еще это предательство. Юра, может, на него рассчитывал.
Озвучил вопрос Ибо.
— Почему ты бросил катание? Григорий возраст, а ты?
В зеркале Юра поймал, как Григорий у них за спинами застыл с полотенцем в руках.
— Стрела в колено попала, — сказал Юра.
— Травма? — Ибо нахмурился. — Не знал. Но как танцевать?
— Нормально танцевать. Не колено там, в порядке все.
В ответ на вопросительный взгляд вздохнул и принялся объяснять про скачок роста и потерю баланса. Что был шанс перестроиться, но как раньше он бы уже не катался. Золото он уже брал, но если больше не возьмет, какой смысл? Аргументы, несколько лет назад заготовленные для Никифорова. И пропавшие даром, потому что Никифоров ничего не спросил. Никифоров не был злым духом большого спорта, которого нужно было победить, чтобы сбежать. Он его не держал, ему было все равно. После Никифорова Якову ничего объясн��ть уже не пришлось.
Ибо отвалил. Иногда он умел вовремя отвалить. Иногда — нет. Во время ожидания, разминок, в гримерке он дергал его постоянно. Юра толком не учился в школе, но иногда ему казалось, что они с Ибо — пятиклассники на перемене. Или собаки Никифорова с Кацудоном, смешно и небольно таскавшие друг друга за уши, когда внимание людей временно занимало что-нибудь другое. Ибо драконил его тычками и тупыми шутками, пока Юра, ошалев от тактильной перегрузки, как от щекотки, не огрызался на него. Тогда Ибо отскакивал с гиеньим смехом, а в глазах читалась осторожность. Как будто он не мог себя остановить, но и перегнуть палку не хотел. В конце концов Юра привык. Начал сам его подъебывать в ответ. Почти перестал замечать, как постоянное присутствие другого чувака где-то на периферии личного пространства отзывалось в груди глухой тяжелой болью.
Он был помешан на постановке, как оказалось. Торчал в зале чуть ли не сутками. Юра старался от него не отставать.
— Выстрел! Рухнул!
Юра ненавидел этот момент. Каждый раз, когда начинало получаться, застывал и не мог сдвинуться с места. Не мог упасть на матовый паркет сцены, хотя с Ибо уже отрабатывали это отдельно. Как Полунин он не мог, но мог, как Ибо, когда Ибо показывал, как сломаться в правильных местах, чтобы движение получилось плавным, когда нужно плавное, резким, когда нужно резкое. В зале мог, а на сцене, с этим светом — нет. Слишком было похоже.
— Перерыв, — прохрипел Юра, ослепленный то ли прожектором, то ли чем-то своим. Содрал пуанты, непонятно как добрался до гримерки, до раковины. Посмеялся бы, если бы мог вздохнуть, что почти рыдает почти в сортире, как когда-то Кацуки.
— Юра.
О, нет, нет, нет.
— Все в порядке. Айм олрайт. Свет, мать его, в глаза просто.
Ничего ему не хотелось объяснять Ибо, хотелось свернуться под раковиной калачиком и выть. Может, помогло бы достаточно покричать, но Юра боялся этот свой крик услышать и просто не пережить. Может, он и орал тогда, в самом начале — он помнил, что кто-то его держал, смутно помнил, как летел куда-то или ехал, нагруженный седативными. Кто-то рядом болтал по телефону о чем угодно, только не называя, что случилось, вслух, а Юра ничего вокруг не видел.
Пока Юра смотрел свой фэшбэк, Ибо уселся, оказывается, с ним рядом на пол и что-то включил на телефоне.
— Я знаю, — сказал он, как раз когда Юра понял, что там за видео, — что похоже.
Юре захотелось его ударить. Не как обычно, в шутку, а по-настоящему, чтобы кровь пошла, нос сломать, может быть, устроить нелепую уродливую драку. В горло вцепиться. Вместо этого он сказал:
— Похуй мне, что ты знаешь. Донт гив э шит. Вырубай.
Он не смотрел это выступление два года. Никакие не смотрел. Ничего с Отабеком. Когда случайно натыкался, минимум несколько часов потом не помнил. Как-то раз увидел в новостях в метро — уехал, не приходя в сознание, к черту на рога, на конечную, просидел там на лавке до закрытия. Хер знает, что делал.
Но сейчас, когда Ибо показывал ему прокат на телефоне, Юра потери связи с реальностью не ощущал. Наверное, настолько охуел, что крыша передумала отлетать.
Ибо задумчиво толкнул его коленом. Видео остановил, что-то понабирал в телефоне. Юра не сразу понял, что он мучает переводчик. Через некоторое время выдал что-то, сводящееся, в целом, к "я не пытаюсь его заменить". И еще — "свет можно поставить по-другому, поменять хореографию, давай поговорим с Режиссером". И еще что-то, что он никак не мог то ли перевести, то ли просто сформулировать. Хмурился, глядя в телефон, стирал и набирал слова. В конце концов просто сказал по-русски: "хуево".
— Ты гуглил его что ли? — Спросил Юра.
Ибо кивнул:
— Тебя.
— Ага. Так. А давно?
— М-м-м, — Ибо замялся, и Юра безошибочно узнал в нем человека, который собирается напиздеть, что не понимает вопроса, чтобы на него не отвечать.
— Нет, давай без хуйни. Когда.
Сразу, как оказалось.
Но только после того, как начались проблемы с этой сценой, догуглил до Отабека.
— Замолчи.
Что-то было завораживающее в том, как Ибо, не говоря ни на одном языке до конца, называл своими словами вещи, о которых Юра не мог даже нормально думать. Но все-таки у Юры был предел.
Юра прокашлялся. Горло больше не сжимало, риск разреветься стремительно отступал вместе с туманом в голове. Он просто сидел на полу рядом с Ибо, в котором ему прямо сейчас даже не мерещился Отабек.
— Вот ты доебчивый. А я только твой инстаграм пролистал.
— Я твой тоже, но потом.
Юра поднял голову.
— В смысле — потом?
Ибо голову не поднимал, хотя до этого обеспокоенно смотрел на Юру всю дорогу. Теперь его больше занимали собственные руки, телефон, пол.
— Когда тебя уже взяли, — пробормотал он.
До того, как Юру взяли, он Ибо по имени не знал. И Ибо не должен был его знать тоже.
Юра щелкнул пальцами у него перед носом. Ибо все-таки посмотрел на него, виновато, затравленно. Снова вспомнились никифоровские щенки.
— Какого хера? — с явной, ласковой угрозой спросил Юра. — Что это значит?
Ибо принялся объяснять, консультируясь с ебаным гугл транслейтом: давно видел, как Юра катался, следил за победами, хотя в фигкате ни в зуб ногой, слышал, что ушел из спорта и в балет, когда речь зашла о постановке Режиссере, когда Ибо взяли и он рванул в Россию, он уже думал, что Юра идеально подходит. Капал Режиссеру на мозги.
— Я думал, Григорий... — начал Юра.
Ибо кивнул: Григорий помог. Сказал, что ты иначе напряжешься, что у тебя все сложно. Не сказал, почему.
— По кочану, — Юра шмыгнул носом. — Вот что. Я сам всегда все делал, понятно? Мне плевать, что там было в спорте. Я больше не спортсмен. Не знаю, что тебе зашло — как катаюсь или морда моя — мне не надо, чтобы меня кто-то протаскивал на роль из-за этого.
Ибо запротестовал: он ничего не делал, Юра все сам, это же просто кастинг. Юра его остановил, толкнул в плечо.
— Ты же не откажешься? — с ужасом спросил Ибо.
— Нет. Не знаю. Скажи Режиссеру, мне нужно еще 5 минут. Уйди.
Ибо молча встал с пола, шурша костюмом. Ушел. Юра согнулся, выдохнул. Усмехнулся. Каким это все было тупым, каким Ибо был тупым. Юра до этого два года не злился по-настоящему ни на кого, кроме себя.
Нет, не совсем. Кроме себя и Отабека.
Когда он вернулся, Режиссер спросил насчет света. Юра сказал, не нужно ничего менять.
Юра колотил кулаком в дверь, пока что-то в ней не поменялось принципиально и не начало поскрипывать новым образом. Возможно, Ибо просто не было в комнате. Может быть, он сидел, забившись под кровать, и думал, что это к нему ломится спецназ. Пару раз соседи отвлекались от празднования, выглядывали из своих комнат и интересовались, схуяли Юра ломает дверь. Юра отмахивался от них, мол, нормально все. Ответ был неубедительным, но достаточным. Ломаю и ломаю. Он был слишком пьян, чтобы придумать другой план действий, хотя нынешний упирался в непреодолимое препятствие в виде двери и отсутствия Ибо за ней.
В конце концов Юра просто сел перед дверью на пол и позволил голове кружиться.
Ибо сторонился его почти месяц. Сначала смотрел виновато, но Юра ловил это только периферийным зрением. Потом они оба погрузились в танец, который теперь нельзя было обсуждать на перерывах. Перерывы они проводили на почтительном расстоянии друг от друга. Юра не был уверен, почему все происходит так. В самом начале Юре казалось, что еще можно было подойти и сделать вид, что никакого разговора не было, или что был, но все нормально. Он этого не сделал. Он был занят тем, что наблюдал за собой как бы со стороны, как военный журналист, который протоколировал необычное затишье в голове Юры Плисецкого. Что волновало Юру Плисецкого больше — что он запарывает несправедливо полученную роль или что его жизнь на два года застыла в ужасе? Ибо не волновал его точно. Некоторое время.
Решение по поводу роли пришло быстро. Если он не был уверен, что заслуживает роли, если режиссер не был в этом уверен — теперь это было видно по его грустным нездоровым глазам, — значит, нужно было танцевать так, чтобы сомнений не осталось. Он не был достаточно хорош сейчас, но он мог все, это он про себя знал. Он доставал Барановскую, преодолев свой страх столкнуться с Яковом. От Барановской с ее классической муштрой было мало толку в новаторском “Контрасте”, но она умела вправить мозги. Яков в итоге действительно Юре встретился, но оказался совсем нестрашным. Улыбнулся так, как будто ему понравилось, что он увидел.
Юра даже сходил на каток. Даже встал на коньки. В раздевалке столкнулся с Григорием.
— Не боишься травмировать колено? — спроси�� тот.
Юра парировал:
— А ты?
Григорий усмехнулся, хлопнул его по плечу.
Барановская не помогала, каток ничего не поменял. Бесконечные часы с хореографом довели до совершенства технику, но Юра слишком хорошо понимал, что его проблема не в технике. Ему нужен был Ибо, который чувствовал в “Контрасте” что-то, чего Юра сам из себя достать не мог, но их с Ибо взаимное молчание переродилось во что-то злокачественное и непреодолимое. Сначала было похоже, что Ибо считает, что обидел его, и не знает, как извиниться. Теперь виноватым себя чувствовал уже Юра. Непонятно за что. Что послал? Что не подошел раньше? Что чего-то важного не увидел? Что отказывался смотреть?
Теперь Юра смотрел, больше ничего ему не оставалось. Он и раньше жрал движения Ибо глазами, а теперь они отпечатывались у него на внутренней стороне век. Тонкие, грубые, каким-то образом насмешливые, самоироничные, серьезные. Ибо идеально передавал текст "Контраста" и добавлял ему свое выражение, характер. Юре не хватало именно этого, как всегда, но он старался отразить Ибо, продолжить его реплики. На отработке отдельных сцен это получалось. На общих тоже. На парных начались проблемы.
У Юры колотилось сердце, скручивался желудок. Не как от нагрузки. Спокойный, по крайней мере, кажущийся спокойным взгляд Ибо его обжигал. Юра мог бы себе подольше врать, но сейчас он был журналистом, наблюдающим за собой, а хороший журналист сообщает о событиях достоверно.
В конце третьей парной сцены, самой длинной из всех, персонаж Ибо за горло прижимал персонажа Юры к земле. Конец схватки. Ибо умудрялся не касаться его кожи. Позу нужно было несколько секунд держать, пока не опустится занавес. У Ибо подрагивали руки, на лбу блестел пот, он сжал губы от напряжения и смотрел в паркет поверх головы Юры. Юра не мог поддержать их негласную договоренность не смотреть друг другу в глаза. Он не мог оторваться. Военный журналист собрал вещи, отправил телеграмму родственникам и уехал, оставив Юру с этим всем наедине.
Режиссер скомандовал, что сцена закончена.
Ибо рвано выдохнул и отпустил Юру, все-таки мазнув еле ощутимо пальцами по шее.
Когда Юра поднялся, его уже рядом не было.
Режиссер объявил три дня перерыва на праздники. Неслыханно. Юра думал сгонять к дедушке, но ограничился звонком. Дедушка был в порядке.
Юра пошел на каток, где его снова нашел Григорий — у Юры закрадывались подозрения, что Попович за ним следит. Попович, оказалось, был в компании почти всей сборной. Даже Никифорова с его гипоаллергенными собаками, но почему-то без Кацуки. Юра прослушал этот момент, просто уткнулся носом в кудрявую шерсть одной, пока вторая облизывала его ухо.
— Подумываешь вернуться в фигурное катание? — спросил Никифоров задумчиво. Остальные куда-то делись, то ли что-то нужно было купить, то ли организовывали машину. Юра посмотрел на Никифорова снизу-вверх. Он сидел на корточках в снегу и собаках, и менять положение не очень хотел.
— Нет. Мне в балете есть чем заняться.
Никифоров кивнул.
— Да, пожалуй. Яков сказал, у тебя глаза горят. Понимаю теперь, о чем он.
— Как вы меня все опекаете, — сказал Юра, — как ядерную боеголовку.
Никифоров кашлянул, отвел глаза.
— Ну уж, ядерную. Просто пороховая бочка. С бантиком.
— А чего боитесь-то? Что взорвусь и забрызгает? Или что?
Было что-то невероятно приятное в том, чтобы именно Никифорову задавать эти вопросы, наблюдать за его неловкостью, как в нем желание быть всезнающим взрослым ментором борется с желанием съебаться от Юры и его боли на первой космической. Все два года борется, но раньше Юра сам помогал, а теперь мешает.
Никифоров снова повернулся к нему, с усилием. Юра представил, как щелкают шарниры.
— Не знаю, Юр. Не знаю. Просто боимся.
— Мне стало лучше, — сказал Юра. Мысленно добавил: "Без твоей помощи". Тут же понял, что это неправда. Страховочная сетка неловкой поддержки, организованная, в первую очередь, Никифоровым, лишней не была. Просто он тоже мог не все.
— Стадии, — сказал Юра, — все такое.
Никифоров вздрогнул, посмотрел на него удивленно и беспомощно. Юра подумал: на, смотри, я сам могу, тебе не надо.
— Принятия горя. Я читал.
Никифоров кивнул и быстро поморгал, глядя в снег. Он ведь дружил с Отабеком, подумал Юра. Вроде не очень близко, хотя по ним было не разобрать. В чертовы горы с ним не пошел, остался в тепле, как Юра. Снаряжение, вроде, тоже он подарил. Или нет.
Юра поднялся на ноги и обнял Никифорово припорошенное мокрым снегом пальто.
Кацуки был в гипсе, открыл дверь левой рукой. Все принялись охать и ахать, параллельно загромождая вешалку одеждой, а Кацуки повторял: "Все хорошо, просто рука". Никифоров закатывал глаза — “действительно, зачем человеку руки”. Мила с Гошей разрисовали гипс и затискали собак. Юра напился, как свинья. Уехал раньше, чем Никифоров это заметил — хотел сохранить образ человека, который преисполнился в своем сознании. Все равно он там еле мог усидеть на месте. Пока был трезвый, он не особенно знал, что ему делать, но у пьяного Юры возникла в голове стратегия, надежная, как швейцарские часы: нужно было найти Ибо, а дальше действовать по ситуации.
Ситуация привела его в общажный коридор.
— Юра?
— Я в порядке, — машинально ответил Юра. С тех пор, как он разместился на полу, его уже несколько раз спрашивали, все ли у него хорошо.
Потом Юра понял, кто спрашивал на этот раз. Вскочил, пошатнувшись, проморгался. Ибо перед ним выглядел измученным, как после репетиции. Присмотревшись, Юра понял, что он и есть с репетиции или с тренировки, судя по костюму под пуховиком и спортивной сумке.
— Ты нормальный? — поинтересовался Юра, дико глядя на эту сумку. — Мы весь день пахали, а ты еще ночью решил догнаться? Тридцатое декабря!
Ибо устало переступил с ноги на ногу и ничего не сказал. Юра почему-то вспомнил, как Григорий недавно, уже во время их с Ибо радиомолчания, сказал про Ибо, что он “когда что-то надо, без мыла в жопу залезет, но так по-человечески вообще-то сыч”. Он представил, как Ибо тренируется до последнего в зале, а потом идет, один, по слякоти с этой своей сумкой, а вокруг взрывают петарды люди, которых никто нахер не посылал.
— Надо открыть дверь, — сказал Ибо. Юра сделал шаг в сторону. Не стал рассказывать, что еще немного и можно было бы уже, в принципе, и без ключа обойтись.
Ибо пропустил его в комнату. Юра забыл, что собирался делать, если зайдет так далеко, поэтому просто стоял, покачиваясь, и смотрел, как Ибо включает свет, избавляется от куртки. Рассматривает его критически. Юра боялся, как в самом начале, увидеть не совсем его лицо и не совсем вообще его, но вместо этого теперь просто ощущал, как возвращается напряжение последней балетной сцены. Чем дольше он находился с Ибо рядом, тем громче звенело от него в ушах, билось в горле. Ибо начал что-то говорить, но Юра подошел вплотную, и Ибо замолчал. Юра притянул его за шею, поцеловал в губы.
Ибо застыл. Юра через некоторое время отстранился. Спокойно спросил:
— Нет?
Вообще-то ведь могло быть и нет. Он об этом просто не подумал.
Ибо зажмурился и пару раз легонько стукнулся затылком о стену.
— Нет.
Юра начал продумывать план эвакуации, но заметил, что Ибо все еще придерживает его за талию.
— Ты очень пьян, — по-английски, нараспев, сказал Ибо потолку, — а я… — дальше он перешел на язык, которого Юра не знал совсем.
— Переведешь? — спросил он.
— Может быть, — сказал Ибо. — Не сейчас.
Юра завис, размышляя, как сформулировать следующий вопрос.
— Нет в смысле совсем нет, или…
Ибо вместо ответа оторвался от стены, взял его лицо в ладони и поцеловал осторожно, едва касаясь. И отшатнулся, когда что-то резко поменялось вокруг. Юра открыл глаза и не сразу понял, что. Ибо тихо и нервно засмеялся. Было темно. Но недолго — комната тут же осветилась разноцветными вспышками салюта за окном.
#wang yibo#wyb#yuri plisetsky#au#pg13#fanfic#fanfiction#college au#fic#YiboYuraFest2021#fanart#crossover
0 notes
Text
Общее развитие
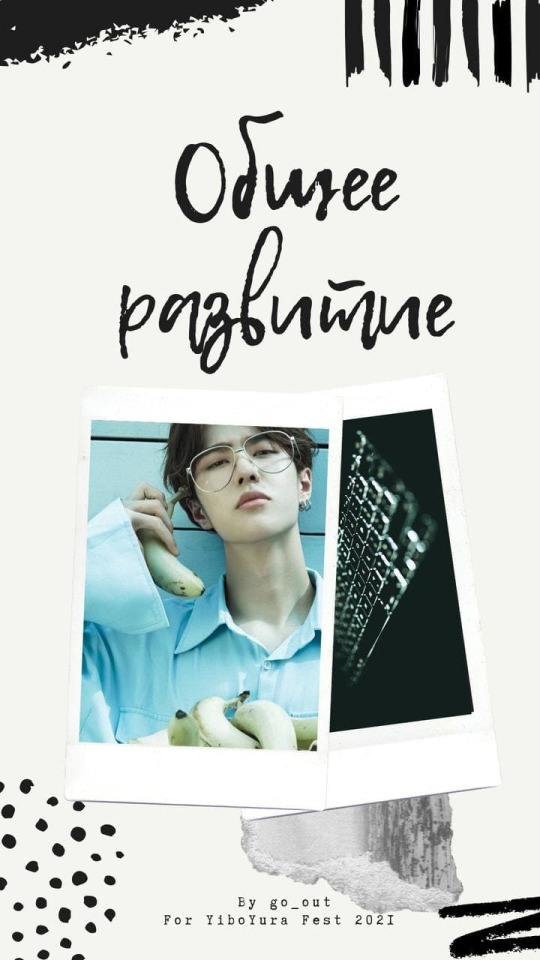
В универ Юра Плисецкий пошел только потому, что дедушка считал наличие диплома очень полезным. Чему полезному могут научить на факультете физкультуры, да еще и на заочном отделении, могло бы быть хорошим вопросом, но Юра абсолютно не стремился им задаваться. Хочет дедушка, чтоб у него был диплом — значит у Юры будет диплом. Тем более, что он был чемпионом в составе сборной страны, отчего деканат его обожал и велел в начале года просто приходить на сессии с зачеткой, а там они обо всем договорятся, потому что тренировки и представление России на международной спортивной арене безусловно важней всех этих лекций, лабораторных и практикумов.
Накладочка вышла во вторую же сессию: оказалось, что кафедра информатики не считает заслуги Плисецкого перед родиной достаточным основанием для того, чтоб поставить ему зачет просто так, и они ждут от него все лабораторные, предусмотренные программой.
— Юрий, попробуйте сами к ним сходить, кафедра в корпусе напротив, — секретарь кафедры мило ему улыбалась, протягивая зачетку, — в этом семестре, насколько я знаю, у заочников предмет принимает кто-то из аспирантов, возможно, вы сможете объяснить ему ситуацию и договориться.
— Нахера вообще эта информатика у физкультурников, а?!
— Для общего развития, Юрий. Умение мыслить алгоритмически очень полезно. Вам в 405 аудиторию, корпус «Г».
«Для общего, блядь, развития», — думает Юра, — «я уже отходил одиннадцать классов школы полных непонятных и ненужных предметов. В предыдущий раз для общего развития Никифоров всунул мне в программу сраное Агапэ, и закончилось это все в итоге занятиями с Барановской и страданиями».
Оказалось, что в корпусе «Г» ниже пятого этажа лифт не ездит, в том числе и на первый, но объявление от октября прошлого года обещало, что все скоро обязательно починят. А пока, чтобы попасть на четвертый этаж корпуса «Г», пройдите по переходу в корпус «B», поднимитесь там на пятый, перейдите по переходу обратно в «Г», оказавшись сразу на шестом, и там уже по лестнице спуститесь на четвертый. Потому что лестница в корпусе «Г» с первого по третий этаж сейчас на ремонте. И все это было секретной информацией, на получение которой Плисецкий потратил целых пятнадцать минут, пытаясь найти хоть кого-то на пустынном первом этаже.
«Ебаный сюр», — думает Юра. — «Они что, вдохновлялись тем советским новогодним фильмом про волшебников, когда придумывали всю эту схему». Хочется надеяться, что он как тот мужик не застрянет навечно в каком-то из коридоров, умереть из-за какой-то информатики Плисецкий не планировал, в его планах только быть самым охуенным и драконить Никифорова с его Кацудоном своими победами.
В 405 ожидаемо никого нет, и Плисецкому приходится искать кабинет кафедры, где его посылают в 415, где принимающий зачеты аспирант как раз ведет экзамен. Плисецкий очень надеется на дружественное отношение от аспиранта, потому что у него ни времени, ни желания (особенно после сегодняшнего похода по лабиринтам альма-матер) писать какие-то лабораторные; он даже не помнит, что было на уроках информатики в школе в те редкие моменты, когда между соревнованиями и подготовкой к ним он в нее ходил. Или у него вообще не было информатики, пока его не перевели на домашнее обучение? В любом случае, он не помнит ничего из школьной программы по этому предмету.
Плисецкий пару раз выдыхает, останавливаясь перед нужной аудиторией, и аккуратно стучит в дверь, прежде чем заглянуть внутрь. За преподавательским столом сидит азиат, выглядящий его ровесником, но с этими азиатами всегда так: сначала они выглядят как двадцатилетние, а после пятидесяти уже на свой реальный возраст. У него абсолютно отстраненное выражение лица, в то время как у всех студентов в аудитории крупным шрифтом написано на лицах страдание. Похоже, с просьбой поставить зачет за заслуги перед Отечеством лучше подойти после того, как все это закончится.
Примерно через час из аудитории выходит последний страдалец, и за это время Плисецкий успел выяснить, что аспиранта зовут Ван Ибо, он не делает поблажек абсолютно никому, даже если ты больше никогда в жизни компьютером пользоваться не будешь, лабы у всех абсолютно разные и достаются они каждому абсолютно рандомно, и покупать их решение довольно бесполезное дело, так как чертов Ван Ибо задает кучу вопросов, и надо уметь не плавать в теме. Но номера телефонов людей, у которых можно заказать решения лаб, Плисецкий все же берет. Также несколько девушек рассказывает ему о том, что Ибо пиздец какой красивый, но пиздец какой скрытный, он на втором курсе аспирантуры, не дружит особо ни с кем из университета, ни с кем не встречается, хотя половина девушек пыталась хотя бы раз пофлиртовать с ним; зимой был слух, что Ван Ибо видели целующимся с парнем в каком-то ЛГБТ-клубе, но через пару месяцев в общий чат универа кто-то слил видео, где Ван Ибо якобы танцует с какой-то девушкой, но это больше было похоже на секс в одежде, так что общественное мнение по вопросу ориентации аспиранта разделилось.
— Я хотел узнать насчет сдачи зачета для заочников, — говорит Юра, втискиваясь в аудиторию и пытаясь быть вежливым.
— Какой курс и кафедра?
— Первый, физкультура.
— Сдаешь все лабы — тут же получаешь зачет. Методичку с лабами рассылали старостам, как делать — рассказывали на установочной.
— А есть какие-то другие условия для тех, кто был на соревнованиях? — пытается мягко намекнуть Плисецкий, что ему не особо свойственно обычно.
— Конечно, — Ван Ибо криво ухмыляется, — нужно всего лишь сдать все лабы.
— Я вообще-то чемпион мира!
— И что? У вас там полфакультета всяких чемпионов.
— Ясно, — цедит Юра сквозь зубы, — просто, блядь, прекрасно.
Плисецкий от души прикладывает дверью об косяк, вылетая из аудитории. «Почему мне не пришла идея тупо купить диплом», — думает Юра. — «Заплатил бы денег, получил бумаги через четыре года, и был бы свободным человеком. Дедушке, конечно, пришлось бы врать — но и никакой головной боли с общим развитием».
***
Все шесть лабораторных вместе с описаниями Юра получает через неделю, как раз накануне недели ЛАЗов — так что у него нет опции налажать. Он читает пояснения к решениям пока едет в трамвае на арену, пока сидит в шпагате, на обеде — но понятней от этого нихрена не становится: все эти лексемы, константы, типы данных, операторы и функции перемешиваются в его голове в однородную кашу настолько сильно, что Плисецкий наяву ощущает, как мозг опухает и начинает давить изнутри на череп.
«Алгоритмическое мышление очень полезно, Юрий», — всплывает в его голове, и Плисецкий выходит из тройного Сальхова, вгрызаясь коньками в лед со всей яростью, которая все никак не утихнет.
Сдача начинается в героические восемь утра, и вместе с Юрой приходит страдать почти вся группа — похоже, не он один рассчитывал на зачет, поставленный за спортивные успехи, но мерзкие информатики обломали всех. Плисецкий садится поближе к преподавательскому столу — планирует услышать что-нибудь умное от тех, кто будет сдавать перед ним, он планирует закончить с этим цирком сегодня, подготовка к Гран-при в самом разгаре, у него нет времени на «общее развитие»; он и так освободил под это дело целый день и слушал неделю гиенистые шутки Поповича и Милы.
Аспирант принимает лабораторные слишком медленно. К концу второго часа Юра начинает психовать, они не дошли еще и до середины группы, большая часть одногруппников на вопросы Ван Ибо что-то невразумительно мычит, тот, в свою очередь, с полным равнодушия лицом смотрит в окно на проезжающие машины, изредка поворачиваясь к отвечающему, видимо, когда начинают нести уж совсем откровенную чушь. Плисецкий дважды выходит из аудитории (с собой нельзя ничего ни выносить, ни приносить) — подышать воздухом на пожарной лестнице и выпить мерзкий кофе из автомата рядом с лифтом — иначе он начнет орать на всех этих блеющих придурков, и на аспиранта — за то, что тот абсолютно не пытается ускорить процесс. Его что, прикалывает сидеть тут целый день?!
В двенадцатом часу очередь доходит до Юры — кроме него остается еще три человека. За сорок минут он успевает с грехом пополам сдать первую лабу — потому что там блок-схемы, и это, блядь, самое простое, что есть в этой ебучей информатике, выдать кучу несвязанной информации о второй, и сейчас пытается убедить Ван Ибо, что он знает тему третьей работы.
Когда он сидел и слушал других, все казалось намного проще, блядь.
— Что делает цикл do-while? — Ван Ибо обводит на его распечатке красной ручкой кусок кода и подвигает листок к Юре.
— Ээээ… — глубокомысленно выдает Юра, вглядываясь в напечатанный текст. Пояснения остались на его парте, а те комментарии, которые есть в коде, абсолютно не помогают. — Считает?
— Считает? — Ван Ибо прерывает свое разглядывание пейзажа за окном, и поворачивается к Юре, поднимая бровь.
— Да! — у Юры внутри опять занимается яростное негодование, потому что ну какого хрена, зачем вообще им такие подробности, он и компьютер-то включает только в несезон, когда хочется посмотреть киношку, а к нему приебались с каким-то невнятным программированием.
— Господин… — Ван Ибо опускает взгляд в ведомость, — Плисецкий, это было очень занимательно, но приходите в сентябре, на сегодня с нас обоих достаточно.
Юра вскакивает, с грохотом отодвигая стул, сметает свои вещи в рюкзак и выметается в коридор, не забывая приложить от души дверью об косяк. Приходите, блядь, в сентябре. Ему кажется, что метафорическая фраза про горящую жопу прямо сейчас престает быть метафорической, и он на одной силе ненависти к высшему образованию в лице информатика за считанные минуты добирается до своего деканата, и шлепает там зачеткой об стол, приковывая к себе внимание всего кабинета.
— Эту херню невозможно сдать! — шипит Юра, как кошка, которую пытаются столкнуть в реку.
Сотрудницы деканата тяжело вздыхают — вот она, оборотная сторона работы с юными звездными дарованиями. Ему сначала читают лекцию о недопустимости обесцененной лексики в стенах университета, затем толкают пространную речь о том, что тут вообще-то никто не обязан решать его проблемы, он уже большой мальчик, и если ему нужен диплом, то нужно приложить минимум усилий для этого — и в этот минимум сейчас входит злосчастная информатика. Юра в очередной раз задает себе вопрос о том, почему ему не пришла в голову мысль просто купить диплом, нажил же проблем сам себе.
Откладывать сдачу на сентябрь не вариант, решает Юра, стоя на улице с очередным стаканом кофе из автомата. В сентябре уже рукой подать до Гран-при, в сентябре он живет на катке, шлифуя прокаты до совершенства.
Он решает взять Ван Ибо измором; в конце концов, до конца сессии еще четыре дня, он сумеет за это время если не взять знаниями и мозгами, то задолбать упорством. Упорство и упертость — два качества, в которых его точно не сможет обскакать какой-то аспирант.
Плисецкий сталкивается с Ван Ибо в переходе между корпусами.
— Мне надо сдать все до каникул, — говорит Юра, загораживая ему путь.
— Ну, а я тут причем?
— Я сделал все лабы! И мне не нужны настолько глубокие познания в информатике.
— Ты их не сделал, ты их купил. И я даже знаю у кого, — Ван Ибо с усмешкой огибает Юру и идет дальше по переходу. — Если бы ты их правда сделал сам, то смог бы сегодня все сдать и был свободен.
— Мне надо все сдать до сентября, — упрямо гнет Юра, догоняя.
— А мне надо, чтоб вы все сами делали эти несчастные лабы, но я же не возмущаюсь.
Плисецкий ловит его за край толстовки, и они оба останавливаются.
— Мне правда надо.
Ван Ибо тяжело вздыхает и пытается отцепить Юру от кофты.
— До конца недели у меня по утрам прием задолженностей. Приходи, если считаешь, что сможешь сдать.
За оставшиеся дни Плисецкий сдает еще одну лабу и понимает, что абсолютно безнадежен, особенно когда кто-то из старших курсов на пересдаче рассказывает про какие-то сети, их обучение и всякие алгоритмы — Юра понимает примерно каждое третье слово, и это абсолютно не добавляет уверенности. Спасибо, что в университете не оставляют на второй год. В последний день какая-то девчонка начинает сначала молча ронять крупные слезы себе на колени, а когда Ван Ибо ставит ей в ведомость неуд — так и вовсе рыдать в голос, и Юра видит, как Ибо застывает на своем стуле в полной нерешительности. Похоже, до этого дня никто не плакал у него на экзаменах, и он не знает, что делать в этой ситуации. Вся аудитория наблюдает за этим бесплатным шоу — рыдающая студентка и жестокий преподаватель, который не делает абсолютно ничего с этим. Юра закатывает глаза, встает со своего места и выводит девушку в коридор, отдавая ей свою почти полную бутылку воды и пачку бумажных платков, которые чудом завалялись в его рюкзаке, и молча сидит рядом, пока она не успокаивается. Они вместе возвращаются в аудиторию, девушка — за своими вещами, Плисецкий же возвращается к своему вороху распечаток, поверх которых написана куча дополнительной информации, которая вроде как должна помочь, но не помогает. Юра дошел уже до стадии торга, поэтому последний час он складывал из бумаги лягушек и кораблики — с оригами у него дела обстоят лучше, чем с информатикой.
Когда они остаются единственными в аудитории, Ван Ибо разваливается на столе, теряя преподавательскую строгость, и устало спрашивает:
— Русская фея, ты сдаваться собираешься сегодня? — да, Ван Ибо погуглил Юру и теперь абсолютно непрофессионально достает его прозвищами, которые придумали Ангелы.
— Ты же понимаешь, что даже в сентябре я буду говорить ту же чушь, что сейчас? — Юра не отрывается от складывания очередной лягушки. Надо было найти схему как складывать какого-нибудь тигра, но телефоны вроде как были запрещены на пересдаче. — Так что может поставишь зачет, и ��ольше мы не будем доставать друг друг��?
В кабинете воцаряется тишина, только бумага, из которой складываются лягушки, иногда шуршит. На столе Плисецкого лягушек уже хватит на небольшой пруд.
— Я дам тебе три новых лабы, вместо оставшихся, и если к сентябрю ты сделаешь их сам, не покупая и не списывая ни у кого, то я поставлю тебе зачет без их защиты.
Юра отрывается от оригами и смотрит на него, как баран на новые ворота.
— А если у меня не получится? Я ж нихера не знаю.
— А если у тебя не получится, то ты так и будешь ходить с хвостом, пока у тебя не получится, — вздыхает Ван Ибо. — Можешь писать мне, если у тебя будут вопросы, но не надейся, что я все сделаю за тебя.
Юра соглашается, потому что других вариантов у него и нет.
***
Июль Юра проводит в компании ноутбука, методички по информатике и переписки с Ван Ибо; пару раз подумывает отчислиться и не ебать мозг, один раз почти выкидывает ноутбук в окно, потому что долбаный код ни черта не компилируется уже час и, кажется, заводит приятельские отношения �� Ибо. К концу месяца он при помощи страданий, гугла, Ван Ибо и такой-то матери наконец добивает последнюю лабу. Юра радостно орет, пишет об этом кучу твитов, выкладывает в сториз фотографию, на которой показывает средний палец экрану ноутбука, и отправляет Ван Ибо фотографию монитора с успешно отработавшей программой, потому что знает, как того бесит, если Юра вместо скринов делает ущербные фотографии.
«Не забудь правильно оформленные отчеты по лабам 😈», отвечает ему Ван Ибо через полтора часа.
«Какие еще, нахер, отчеты,» — думает Юра, и пишет в чат своей группы. Кто-то пересылает ему очередную методичку, и Юра снова орет в монитор, но уже от отчаяния, потому что ну нахуя столько правил для того, чтоб напечатать пять страниц?!
На следующий день он доебывается до канцелярии ледовой арены, чтоб ему распечатали его отчеты, засовывает тонкую пачку листков в файлике в рюкзак, и пишет Ибо что все, баста, теперь его страдания закончились точно, где его медаль за упорство и заслуги перед наукой, и вообще, это дело нужно по старой доброй русской традиции обмыть, а то не загодится.
«Пить со своими студентами не профессионально», — отвечает ему Ибо.
«Да у нас тут с тобой все давно непрофессионально, кроме мозгоебли, так что можешь выбрать место сам», — парирует Юра
Они решают, что отмечать будут, когда Ибо вернется в Питер — сейчас он на правах члена студенческого совета уехал в Сочи, так что их переписка была знатно разбавлена фотографиями моря, пальм и окрестных достопримечательностей. Перелистывать снимки, полные южного солнца и тепла, замерзшими пальцами на катке было довольно забавно. О том, что присылать своим студентам фото с отдыха тоже нихуя не профессионально, Юра напоминать не забывал.
Отмечают Юрины успехи в учебе они через пару недель, Ван Ибо приводит их в какой-то бар подальше от центральных улиц — шутит, что в более известных местах Плисецкого разорвут на сувениры, и его неуспокоенная душа в виду отсутствия зачета будет преследовать Ибо годами.
— Ты свой-то фан-клуб в универе давно видел? — едко интересуется Юра, и Ван Ибо кривит лицо; в вконтакте кто-то создал группу, посвященную Ван Ибо, и в ней несколько сотен человек выкладывают абсолютно сталкерские фото и обсуждают каждого человека, который поговорил с Ибо больше десяти минут.
Бар оказывается бельгийским, так что Ван Ибо устраивает Юре ликбез о разных сортах пива, совмещенный с дегустацией. Если бы Юре кто-то сказал, что можно одним только пивом ужраться за пару часов так, что в нем проснется любовь к окружающим — он бы высмеял придурка. Потому что Плисецкий вроде как закален банкетами после соревнований, где он лет с пятнадцати закидывался шампанским и чем покрепче, пока Фельцман отмечал успехи подопечных с другими тренерами; но вот он здесь, в нем куча разного пива, лежит на диванчике, завалившись на Ван Ибо, и ржет над историей о том, как лучшие представители студенческого совета пытались выйти к морю, а вместо этого чуть незаконно не пересекли границу с Абхазией.
Спустя полчаса и еще один бокал пива душа начинает требовать зрелищ и более насыщенного веселья, поэтому они гуглят ближайший к ним клуб и идут продолжать туда.
Юре хватает пары шотов, в составе которых есть водка, и его размазывает в пьяную лужу прямо за стойкой. Ван Ибо же оказывается до отвратительного стойким к алкоголю, поэтому он оставляет Плисецкого на месте присматривать за их вещами, и, получив обещание не отключаться тут в одиночестве, уходит на танцпол.
Сначала Юра думает, что это пьяные галлюцинации, но судя по реакции остальных людей в баре — они видят то же самое. Ван Ибо танцует так, словно был рожден именно для этого, а не для лекций по информатике, Юра не уверен, что вообще видел раньше человека, который бы настолько хорошо чувствовал музыку, он смотрит, не отрываясь, а потом Ибо просто берет и начинает трахать танцпол в самом буквальном смысле. Наверняка у этого движения есть какое-то название, и это даже выглядит не сильно пошло, но Юру накрывает жаркой волной настолько сильно, что он немного трезвеет.
— Если бы я танцевал так же как ты, то сделал бы это делом всей своей жизни, — говорит Юра, когда Ибо возвращается к нему. В ответ тот смеется и качает головой.
***
В первых числах сентября Юра приходит за своим выстраданным зачетом вместе с разношерстной толпой таких же задолженников. Ван Ибо оставляет Плисецкого напоследок, и когда Юра садится на стул напротив, протягивая ему лабы (на их оформление пришлось угробить целый час), солнце уже начинает садиться.
— Ну так что, — начинает Ван Ибо, лениво перелистывая страницы его работы, — для чего нужен цикл do-while?
На пару секунд Юра впадает в ступор, а потом замечает подрагивающий уголок губ.
— Да ты, блядь, заебал! — Плисецкий швыряет в него подвернувшейся под руку зачеткой и кидается вперед, чтобы надавать по шее этому ржущему придурку.
«Какой же у него тупой смех, просто пиздец», — думает Писецкий, пытаясь одновременно налупить Ибо и не попасться в его захват. Потасовка заканчивается, когда Ван Ибо ловит его руки и крепко прижимает спиной к себе; Юра несколько секунд пытается вырваться, извиваясь ужом, но ничего не выходит, и приходится смирно стоять в кольце чужих рук. Ван Ибо тяжело дышит ему в затылок, и по позвоночнику разбегается толпа мурашек.
«Слишком близко», — проносится у него на краю сознания.
— Пусти меня, — Юра опять пытается вывернуться из чужих рук, он вообще ненавидит, когда кто-то настолько близко к нему, ну, кроме дедушки, конечно.
— Только если ты больше не будешь меня бить.
— Только если ты наконец поставишь мне зачет, — парирует Юра.
Ван Ибо отпускает его, и спине тут же становится прохладно, Юра зябко поводит плечами. Поднимает с пола свою зачетку, отдавая ее Ибо, ждет, пока тот заполнит все документы. На запястьях — красные следы от рук, и будет лучше для всех, если завтра утром они не превратятся в синяки, Юра будет страшно мстить за каждую тупую шутку и косой взгляд, которые эти гипотетические синяки могут получить.
— Поздравляю, господин Плисецкий, с успешной сдачей зачета. — Ван Ибо протягивает ему зачетку, и Юра тут же открывает ее, чтоб убедиться — заветное слово «зачет» напротив информатики наконец стоит, можно забыть все это как страшный сон. Ну, или почти все.
Они вместе идут к лифтам: к началу учебного года его наконец починили, и теперь можно не бегать кругами по лестницам и переходам. Лифт ползет до первого этажа отвратительно медленно, и, когда на табло загорается цифра один, просто останавливается, не открывая дверей. Кто-то из людей нервно смеется, все надеются, что вот сейчас двери откроются, но не происходит ничего.
— Да вы прикалываетесь что ли, — бормочет девушка, которая зашла вместе с ними на четвертом, и начинает нервно нажимать на кнопку открытия дверей. Не помогает.
Кто-то пытается вызвать лифтера, но динамики молчат. Девушка психует и начинает нажимать все кнопки подряд на панели, отчего лифт ненадолго издает жужжащий звук, а потом в кабине резко гаснет свет, и остается только подсветка табло. Юра чувствует, как за его плечом вздрагивает Ибо, и следом запястье оказывается в стальной хватке. «Ну, теперь точно будет синяк», — раздраженно думает Юра.
— Эй, ты чего вцепился? — Юра пытается рассмотреть в почти полной темноте чужое лицо, но ни черта не видно.
— Ничего... — сдавленно отвечает Ибо, разжимая руку и прижимаясь спиной к стенке лифта. У дверей лифта разгорался скандал.
— Нахрена было тыкать во все кнопки?!
— А что надо было делать, а, умник?!
— Кто-нибудь знает телефон диспетчерской? Обычно его пишут внутри лифта, — кто-то включает фонарик, беспорядочно освещая стены. Юра замечает бледное лицо Ван Ибо и взгляд в одну точку. Ну, приплыли.
— А вы нажимали на «колокольчик»?
— Нет, блядь, такие гениальные идеи нам в голову не приходили!
— У кого-нибудь ловит связь?
— В этом лифте никогда не ловит...
Кто-то начинает орать и стучать по створкам лифта, от слишком громких звуков Юра дергается и спотыкается об Ибо; тот сполз на пол, зажмурившись, а ладони зажав подмышками.
— У тебя клаустрофобия? — Юра опускается на пол рядом с Ибо.
— Нет, просто не очень люблю темноту.
«Да у него же паника», — понимает Юра. В прошлом году Мила затащила его вместе с собой на какие-то курсы по доврачебной помощи, и там рассказывали про признаки паники — Ибо в его нынешнем состоянии был лучшей иллюстрацией той лекции. Юра думал, что ему, скорее, пригодятся знания о том, как кровь останавливать и повязки накладывать, чем успокаивать паникующих, поэтому слушал вполуха, но, как любил говорить дедуш��а, человек предполагает, а бог располагает. Плисецкий достает из кармана телефон, включает фонарик и кладет телефон рядом с ними экраном вниз.
— Так, открой глаза, слышишь? — Юра трясет Ибо за плечо. — Посмотри на меня, Ван Ибо, давай. Тут уже почти светло и куча людей, слышишь, как орут.
Ибо что-то пробубнил себе в коленки, Юра приблизил лицо, но ничего не разобрал.
— А ну прикрутили громкость! — рявкнул Плисецкий на собачащихся студентов. Подвинулся ближе к Ибо, положил ему одну руку на живот, а другую просунул между стенкой и спиной. — Дыши так, чтоб у меня рука поднималась, и в глаза мне смотри. Давай-давай, не закрывай глаза. Какой у меня цвет глаз?
— Светлые…
— Ага, а цвет? Дыши давай лучше, не отлынивай.
— Как у моря.
— Какого еще нахер моря?
— Тропического.
Юра чуть не упал на задницу от таких заявлений. Еще утром его глаза были среднестатистического зеленого цвета, как у доброй половины страны, а тут такие метафоры. Сразу стало как-то неловко: Юра чувствовал дыхание Ибо у себя на лице, под ладонью ощущался твердый пресс, почувствовал, как начали гореть жаром собственные щеки. Оставалось надеяться, что Ибо сейчас не до чужого смущенного румянца.
— Дышать не прекращай, — выдавил из себя Юра. — И они зеленые, ты, дальтоник.
Через минут десять все немного успокоилось. Скандалисты устали ругаться, все расселись на полу, смирившись с безвыходным положением; Ван Ибо тоже выглядел лучше, не такой бледный, взгляда от Юры не отрывал. Тот смотрел в ответ, не убирая рук, и в какой-то момент начало казаться, что они тут только вдвоем, в голове все плыло. Наверно, от духоты.
У кого-то пиликнул уведомлением телефон.
И еще раз.
И еще.
Атмосфера в лифте за секунды возвращалась к накаленной.
— Это у кого? — обманчиво ласково спросил один из парней.
Плисецкий был готов присоединиться к кровавой расправе, но и выпускать Ван Ибо из рук как-то не хотелось.
Оказалось, что полумертвый вай-фай библиотеки со второго этажа каким-то чудом пробивался через стенки шахты лифта, и у них был призрачный шанс на спасение. Спустя полчаса и несколько зависших сообщений в мессенджерах, их наконец выпустили наружу. Было ощущение, что они света белого не видели не один день; каждый выходящий из лифта грозился написать ворох жалоб и зарекался ездить на лифте.
— Ты как? — спрашивает Юра на крыльце.
— Нормально.
— Класс, — кивает ему Юра, — ну, спишемся тогда.
— Юра, — окрик нагоняет его уже в десятке шагов от крыльца, и Плисецкий оборачивается. — Спасибо, что был со мной в лифте.
Юра молча смотрит на него несколько секунд, слабо улыбается напоследок и уходит домой.
***
Дома Плисецкий ворочается в постели до двух часов ночи, не может выкинуть из головы то, как они сидели в лифте. Стоит закрыть глаза, и он снова смотрит на Ибо; фонарик телефона слишком резко освещает его черты снизу, отчего глаза кажутся мерцающей чернотой, в которую Юру неотвратимо затягивает. Кроме темноты глаз Юра помнит обкусанные губы, теплое дыхание, легкую дрожь чужого тела под своими руками. Перед тем, как провалиться в сон, Юра думает о том, что хотел бы просидеть так не один час.
***
Целую неделю Юре снятся сны, чего не было уже очень много лет, обычно он просто закрывает глаза, наступает чернота, и вот уже звонит будильник. Но теперь ему снятся сны, и в них он постоянно с Ван Ибо; начинаются все по-разному: они снова в баре, или в клубе, или в кабинете, или в лифте — в лифте чаще всего, близко друг к другу, что-то делают, о чем-то разговаривают. А вот заканчиваются все сны одинаково: они целуются, и Юра просыпается со стояком. Юра не просыпался со стояком даже в период буйства гормонов, потому что Фельцман так упахивал его на тренировках, что ни одна часть Юриного тела не могла стоять к вечеру. Попросить, что ли, Якова, чтоб гонял его сильней?
Они с Ван Ибо продолжают переписываться в телеграме, но Юре этого не достаточно, его ломает: он мониторит ту сталкерскую группу и университетское «Подслушано», по сотому кругу смотрит посты в инстаграме, даже узнает расписание пар, которые тот ведет, и минут двадцать раздумывает о том, чтоб наврать про внезапно проснувшуюся любовь к предмету и прийти вольным слушателем. Потом он решает, что это, все же, уже слишком, и, разозлившись на самого себя, ложится спать.
«Что будет следующим, Юрочка, будешь дрочить на фотки и видео Ван Ибо?» — думает он, прежде чем отключиться.
Утром Юра просыпается с мокрым бельем.
***
Весь следующий месяц Юра проводит в отрицании, потому что он, блядь, не интересуется парнями. Абсолютно точно нет. У Юры одна любовь, и это фигурное катание, а не азиаты с кафедры информатики. Он катается на разрыв, все остальные на катке жмутся поближе к бортикам и подальше от него. Вот и правильно, нехер лезть под ноги, у него соревнования на носу, показательные через две недели, ему надо работать втрое усердней, чтоб до звенящей пустоты в голове вечером.
На пьянке после показательных (Мила пафосно назвала это тимбилдингом) Юра технично закидывается шампанским, потому что его все заебали, и он сам себя тоже заебал. Смотрит на всех волком, чтоб никто не лез с разговорами или вопросами, и, когда в голове начинает шуметь, выходит слегка проветриться на улицу.
— Юрий Андреевич, — слышит Юра у себя за спиной. Ебучий Никифоров. Этого ничем не отвадишь. Улыбается сладко, но вцепляется хуже любого бульдога, не отъебется, пока не получит свое. — Что с тобой?
— Нихуя со мной.
— Чего тогда ты сучишься уже почти месяц на всех? Или проблема как раз в том, что ничего не происходит?
«Что, блядь, за сеансы непрошенной психотерапии», — думает Юра, и тяжко вздыхает.
— Шел бы ты, Витя, нахуй. Или в жопу, не знаю, как тебе больше нравится.
— Плисецкий, не мудачь пожалуйста, — Никифоров становится перед ним, и Юра замечает, что они одного роста. Взгляд цепляется за глаза, они у него синие, больше похожи на море, чем у самого Юры. Интересно, Кацудон сравнивал его глаза с морем? Или что там у них в Японии, океан? — Мы не чужие люди, я переживаю за тебя.
Юра долго смотрит Никифорову в глаза, и шампанское в нем берет верх: он вываливает на Виктора свои метания, историю про информатику и лифт, и про поход в бар и клуб, стараясь не называть имен и половой принадлежности; выходит сумбурно, но общую суть уловить можно.
— И что тебе мешает предложить встретиться? Или пригласить куда-нибудь. Хоть вон на показательные сегодняшние позвал бы.
— Потому что это все тупо? — Юра отчаянно трет лицо — Да и не думаю, что ему...
— Ему? — Никифоров перебивает его, выгибая бровь.
«Твою мать», — думает Юра. — «Нахрена я вообще открыл рот, надо было косить под идиота и молчать, может, Никифорову надоело бы, и он отъебался».
— Просто позови его уже куда-нибудь, а там по обстоятельствам разберешься, Юр, интересно ему или нет, — заканчивает Никифоров.
Как у него, блядь, все просто.
***
— Пригласи его в гости винду переставить, — говорит Никифоров Юре с безопасного расстояния через несколько дней, и скалится, скотина.
Разговаривать с Никифоровым было в принципе так себе идеей, но, во-первых, Плисецкий и хорошие идеи, как правило, обитали в параллельных вселенных, во-вторых, Виктор Никифоров был, к сожалению, единственным его знакомым, имеющим успешные отношения с мужиком.
— Охуенный, блядь, совет, спасибо! — шипит Юра и уезжает на середину катка. Лучше бы он такие охуенные советы своему Кацудону давал, глядишь, обходил бы тогда он Юру не на жалкие десятые доли и не иногда, а всегда и на десятки баллов. Но имеем то, что имеем, Никифоров хоть и скотина, но своя, почти родная.
Юра катается, витая в своих мыслях, предложение Никифорова зудит на периферии сознания. Самое прекрасное в нем было то, что оно при постороннем взгляде меньше всего походило на приглашение на хоть сколько-то романтическую встречу. Единственный подтекст, который там есть, сугубо сексуального характера, а за последние дни Юра для себя решил, что это никакая не влюбленность, а просто гормоны, у него встает на красивого парня, ну, что тут поделаешь. У того же Никифорова встает на вообще на Кацудона, и ничего, все живы, земля не разверзлась, пальцем в него не тыкает. Хотя Юра бы конечно посмотрел на тех смельчаков, которые рискнули бы высказать свое «фи» по этому вопросу Виктору в лицо.
Ближе к одиннадцати вечера Юра все же решается написать Ван Ибо. В крайнем случае, его просто пошлют нахуй, набить рожу по телефону современные технологии пока не позволяют.
«Приве��, можешь переустановить мне винду на ноуте?» — пишет Юра и пристально смотрит в экран. Ничего не происходит. Через минуту экран тухнет, и Юра бросает телефон на кровать, начиная наворачивать круги по квартире. Он уже подумывает малодушно удалить сообщение, но тут телефон пиликает входящим, и Юра замирает посреди комнаты, как олень в свете фар. Телефон пиликает еще раз. Юра осторожно подходит к нему, словно это ядовитая змея, а не кусок пластика и микросхем.
«Если я работаю на кафедре информатики это не значит что я умею решать проблемы с программным обеспечением 🙄».
«Но винду тебе так и быть переставлю. Когда?»
Юра выдыхает. Нихрена не понятно по обстоятельствам пока что, либо обстоятельств мало, либо Никифоров напиздел опять. Но вроде бы все не очень плохо.
Они договариваются на следующую неделю, Юра ставит себе напоминалку в календарь (словно у него есть хоть какие-то шансы забыть об этом), заказывает клининг накануне, перечитывает сегодняшнюю переписку в очередной раз. Лицо растягивается в глупой улыбке, и он ничего не может с этим сделать, да и не хочет.
Это совершенно точно не влюбленность.
***
Всю неделю Плисецкий был злой как черт, потому что было нихрена непонятно, что делать, и зачем он последовал тупому совету Никофорова. Фельцман радовался тому злому отчаянию, с которым он откатывал тренировки, Кацудон держался на другом краю катка, Мила зубоскалила и предлагала советы для «свиданки», откуда прознала только, Никифоров, похоже, осознал масштабы пиздеца, в который с головой нырнул Плисецкий, и пытался с ним поговорить; Юра хотел, чтоб они все отъебались от него, и тупой вечер с переустановкой винды наконец прошел.
Проблема была в том, что у Плисецкого отсутствовал абсолютно любой опыт, связанный с романтическими отношениями. Все, что у него было — пара невнятных попыток поцеловаться, всего одна из которых закончилась реальным поцелуем. Плисецкому было шестнадцать, и все, что он помнит — что это было неловко, скучно и слюняво. Хотелось, чтобы с Ибо было не скучно и не слюняво. Потому что в том, что это будет неловко, сомнений не было абсолютно.
Домой Юра пришел за полчаса до времени, о котором договорился с Ван Ибо — как раз чтобы принять душ после тренировки, встретить курьера и не успеть накрутить себя до внутренней истерики.
Ван Ибо пришел одновременно с курьером, и по его виду было сразу понятно, что он вкусил все радости питерской слякоти: джинсы и бок его зеленой куртки были живописно украшены осенней грязью.
— Ладно, я смирился с огромными лужами и тем, что меня окатит водой из нее первая же машина. Но почему никто не убирает листву до того, как она раскиснет в этих лужах? — возмущается Ибо, пытаясь разуться в маленьком коридоре квартиры Плисецкого и при этом не обтирать курткой ничего вокруг.
— Ну, во-первых, пока листва сухая ей прикольно шуршать. Во-вторых, весь мир разделен на два лагеря — одни за уборку листвы, другие против. Правда, изначально речь шла про листву на газонах, но мы не признаем полумер и не убираем ее нигде в итоге.
Ван Ибо морщится в ответ на его слова. Два года в России все еще не примирили его с суровой действительностью.
— Где у тебя ванная, попытаюсь хоть немного оттереть эту грязь с джинс, чтоб не уделать тебе тут все.
Юра ведет его в ванную, хотя в его квартире трудно заблудиться — он снимает типичную хрущевку недалеко от ледового, в которую обычно приходит только поспать. Наблюдает за Ибо, прислонившись к косяку, от всех манипуляций становится только хуже, слой грязи становится меньше, но площадь пятна становится больше.
«Вот поэтому нужно ходить в черных джинсах», — думает Юра. — «Особенно когда на улице сезон жидкой грязи».
Плисецкий уходит в комнату и возвращается со штанами от одной из своих форм сборной, и кидает их в Ибо.
— Переодевайся, пока ты совсем не угробил джинсы, стиралка на кухне, закинем на быструю стирку, а потом на батарее посушим. — Юра уходит на кухню, потому что смотреть на переодевающегося Ибо он пока морально не готов.
Ван Ибо приходит почти следом, и штаны обтягивают его бедра слишком сильно. Все становится хуже, когда он закидывает штаны в машинку и, следуя указаниям Плисецкого, наклоняется, чтобы достать порошок из шкафчика.
«Пиздец», — думает Юра, — «лучше бы он вымазал всю квартиру в грязь и листву, чем он теперь будет ходить у меня по квартире в этих штанах».
— Ты слишком тощий, я чудом смог влезть в эти штаны, — ворчит Ибо. — Если они треснут, то это твоя вина
— Надо меньше доширака жрать и заниматься спортом, — привычно огрызается Юра. «Я умру от инфаркта быстрей, чем лопнут эти штаны», — проносится в его голове.
— Я занимаюсь спортом!
— Бег за автобусом и между корпусами это не спорт, и танцы в клубах тоже.
— Ну, зато я хотя бы умный.
Юра привычно закатывает глаза, это они уже проходили.
Ужин проходит под обсуждение тупых новостей из интернета, Юриного нытья о том, как его заебали все на катке, и ответного нытья Ибо о том, что однажды он умрет, погребенный под отчетной документацией для очередного гранта. Они сидят плечом к плечу на маленьком диване в Юриной кухне, и внутри Юры неожиданно пробуждается какое-то теплое чувство, сродни тому, что бывает, когда он приезжает к дедушке в Москву.
— Так что там у тебя с виндой, — спрашивает Ван Ибо.
— А?
— Ты говорил, что тебе винду надо переустановить, — глядя на него как на идиота говорит Ибо.
— Ааа, это... Сейчас покажу, — Юра деревянно встает с дивана и уходит в комнату.
Это полный провал. Просто пиздец. Все его переживания о возможных поцелуях или том, что вдруг все зайдет дальше поцелуев, были абсолютно напрасными, потому что Ван Ибо пришел в самом деле переставлять ему винду. Плисецкий подходит в открытому шкафу, утыкается лицом в стопу толстовок и тихонько воет на одной ноте. Каков пиздец-то, а. Хорошо, что у него в принципе есть ноутбук, правда последний раз Плисецкий включал его, когда делал несчастные лабы по информатике, и он работал в��обще без нареканий. Хорошо, что в свое время его задушила жаба, и он не купил макбук, иначе это было бы вообще ни в какие ворота.
Плисецкий достает ноут из свалки на столе и относит его на кухню, пытаясь совладать с внутренней истерикой. Главное не психовать.

***
На следующий день на катке Плисецкий выглядит настолько угрожающе злым, что даже Фельцман никак не комментирует его поведение. Ближе к обеду приходит Барановская и смотрит на его тренировку с трибун, поджав губы. Юра психует. Пытается прыгнуть тройной, но перекручивает. Психует еще сильней, и прыгает четверной. Фельцман кричит, что если он не может сосредоточиться и прыгнуть сколько нужно, а не сколько получается, то пусть сваливает с катка. Юра летит в раздевалку так, словно за ним гонятся все демоны ада, снося всех на своем пути.
В раздевалку приходит Никифоров, и Юра по его виду понимает, что сейчас будет очередной сеанс задушевных бесед. Виктор выбрал удачное время — он уже снял коньки с одной ноги, так что сразу сбежать не удастся.
— Юр…
— Никифоров, отъебись от меня, пожалуйста! — он бы кинул в Никифорова коньком, но недавно наточенные лезвия жалко портить об этого дурака.
— Все было настолько плохо? Он тебя послал?
— Он больше часа ковырялся в моем ноутбуке, ища в несуществующую проблему.
— Юр, а ты его под каким предлогом приглашал-то? — вкрадчиво спрашивает Никифоров. Плисецкий чувствует себя идиотом почему-то.
— Винду переустановить...
Никифоров на несколько секунд теряет лицо, но потом берет себя в руки.
— Думаю, у вас просто не сошелся культурный код, потому что добрые одногруппники до сих пор не рассказали ему о том, что значит эта фраза.
Юра со стоном отчаяния прячет лицо в руках и думает, что все это какой-то ебаный пиздец. Почему нельзя было просто сдать эти лабы, просто дружить в конце концов. «Нахуя ты взял и влюбился, Юра», — спрашивает сам себя Плисецкий. С другой стороны, не жили хорошо, и начинать не к чему. С чего он, блядь, вообще решил, будто есть шанс, что не один испытывает какие-то чувства.
— Пригласи его на московское Гран-при, Юра. Там вы все друг про друга поймете.
— Нет.
— Почему?
— Потому что я уже один раз послушал твоих советов, и посмотри, блядь, что вышло. Может, сошелся у нас культурный код, а он просто так аккуратно намекнул, чтоб я шел нахер?!
— Он бы тогда вообще к тебе не приходил.
— Он не попрется в другой город ради того, чтоб три минуты смотреть на то, как я катаюсь!
— Плисецкий, дорогой ты мой, это что, комплексы на старости лет прорезаются у тебя? — Никифоров устало трет переносицу. А нечего было со своими задушевными разговорами лезть, шел бы вон к своему мужику и его лечил. Теперь получите-распишитесь. — Откуда ты знаешь, куда он поедет, а куда нет, если ты его не спрашиваешь? Просто пригласи, мы с Яковом выбьем ему простенькую аккредитацию даже, чтоб ему не пришлось покупать билет, и он мог побыть с тобой за кулисами.
Юра молча лежит на скамейке, разглядывая потолок. «Какое злое зло я сделал», — думает он, — «что я оказался в этом ебучем болоте».
— Юр?
— Ладно, я приглашу, только отъебись уже от меня.
До московского этапа Гран-при остается месяц.
***
Юра надеется, что Никифоров забудет про их разговор, все же соревнования на носу, Кацудон вообще не блещет на тренировках, какое ему дело до Юриных душевных страданий. Но Виктор сверлит взглядом Плисецкого каждый раз, когда они сталкиваются на катке, у Юры уже скоро будет дыра в затылке, но это не страшно, зачем фигуристу голова, как любит говорить Фельцман.
Через две недели Никифоров ловит Юру на выходе с катка, пока тот надевает блокираторы, и тащит в какую-то подсобку чуть ли не за шкирку, как провинившегося щенка. Юра орет, вырывается, но никто не обращает на них внимания — все привыкли, у них всегда так.
— Ты пригласил? — спрашивает Никифоров строго, сверкая глазами. Юра решает притвориться глухим, раз уж раньше ему не пришло в голову молчать и не трепаться перед Виктором. — Так, Юр, или ты прямо сейчас пишешь ему и приглашаешь сам, или я завтра поеду в твой универ, найду там твоего китайца, и сам с ним поговорю, приглашу на Гран-при, даже билеты до Москвы куплю ему.
— Он не мой, — огрызается Юра.
— Это все, что ты вынес из моего монолога?
— Я напишу ему сам, я все понял.
— Пиши ему прямо сейчас.
Юра психует.
— Вить, а давно ли ты у нас такой эксперт по отношениям? Забыл, как знатно ебал мозг и себе, и своему Юри, пока он, блядь, не купил кольца и не положил конец твоим метаниям?!
Виктор молча смотрит на него, даже не меняясь в лице; тишина начинает давить.
— Иногда мне кажется, что ты вырос, Юра, но потом ты открываешь рот, и я понимаю, что это иллюзия. Тебе все еще пятнадцать.
Никифоров оставляет его одного, и Юра возвращается обратно на лед. Ему не нужны ни советы, ни помощь, ни эти тупые чувства, у него есть лед, Яков, Лилия и дедушка. Он перебесится, и все снова станет как раньше, просто и понятно.
На следующий день Никифоров делает вид, что его не существует, Кацудон смотрит на него одновременно с какой-то непонятной жалостью и так, словно Плисецкий на его глазах пытал котят. Юра от всего этого вдруг чувствует себя невероятно паршиво, отчего катается так, словно второй раз в жизни на коньки встал. Фельцман орет с трибун так, что скоро голос сорвет, и это еще Барановская не видит, что вместо изящных мягких рук у Юры сегодня какие-то клешни.
Фельцман объявляет перерыв и уходит за кофе, которое не меньше чем на треть будет состоять из коньяка, Юра уверен. Он ложится на лед прямо там, где остановился, и надеется промерзнуть насквозь, чтобы это мерзкое чувство вины замерзло изнутри.
— Юурио, не надо, ты заболеешь. — Кацудон подъезжает к нему и садится рядом с ним. — У тебя соревнования скоро.
«Почему вы все такие заботливые», — думает Юра, — «я же знатный мудак. Может, если я заболею и подхвачу двухстороннее воспаление легких, все станет лучше. Заболел, покашлял и умер, никаких тебе больше хлопот. И окружающим тоже».
Юра поднимается со льда и едет к бортику, на котором лежит его телефон. Долго смотрит в переписку с Ван Ибо, и наконец решается: предлагает Ван Ибо посмотреть на Гран-при, оно как раз на выходные приходится, говорит, что договорится с дедушкой, чтоб Ибо не тратился на отель и жил у них.
Ван Ибо отвечает, уже когда Фельцман поднимается на трибуны, чтобы и дальше наставлять подопечных — Ибо согласен, но сможет приехать только на произвольную, в день, когда будет прокат короткой, он работает. «Так тоже неплохо», — решает Юра, и дальше катается намного чище.
После тренировки он отлавливает в полупустом коридоре Никифорова, чтобы извиниться. Они заходят в пустую раздевалку, и у Юры язык отнимается, не может ни звука выдавить себя. Глаз поднять тоже не получается, стыдом затапливает по самую макушку. Юра по пальцам одной руки может пересчитать разы, когда ему было стыдно, но настолько сильно как сейчас — еще никогда не было.
— Плисецкий, я конечно талантлив до невозможности, но мысли читать не умею. Так что или говори, или я пошел.
— Извини, — бормочет Юра себе под нос, — я не хотел.
— Все ты хотел, Юрочка, — тяжело вздыхает Никифоров, — у тебя даже опции нет такой — делать то, чего ты не хочешь.
— Я хотел, чтоб ты отъебался от меня и перестал давить! — психует Юра, возвращаясь на знакомые рельсы. — Ты же мертвого заебешь!
— А тебя, Юра, если не заебать, то ты достаточно высоко прыгать перестаешь, так что терпи, сделаем из тебя человека однажды.
— Я, блядь, и без этого справляюсь!
— И как успехи, просвети-ка меня?
Юра молчит с недовольным.
— Пригласил я его.
— И?
— Он только на произвольную сможет, в субботу у него пары.
— Вот и чудесно, — заключает Никифоров, и идет на выход.
— Вить? — Юра останавливает его, когда тот уже берется за ручку двери. — Прости?
Никифоров меряет его долгим взглядом.
— Скажи своему китайцу, чтобы прислал копию паспорта — аккредитацию пора уже делать.
***
Короткую программу Юра откатывает блестяще, занимает первую позицию, и даже Фельцману не к чему придраться. Ван Ибо пишет ему, что смотрел трансляцию, потому что преподаватель, в отличие от студентов, может заниматься на паре абсолютно чем угодно. Говорит, что ему понравилось, но Юра, посмотрев уже свое видео пару раз, находит пару огрехов, которые можно было бы довести до совершенства. Ибо приедет завтра сразу на ледовую арену, и Юра опять не может нормально уснуть от двойного нервного возбуждения.
На следующий день Ван Ибо опаздывает. Пишет, что для простоты и быстроты взял такси, но попал в пробку. Юрино напряжение можно резать ножом, ему кажется, что если он замрет на одном месте больше, чем на минуту, то все увидят, как он мелко вибрирует от нервов. А он никогда не нервничал; злился, обижался, психовал — да, но не нервничал. Юра уже мысленно обещает закатать Ван Ибо в лед прямо на этой арене, когда из коридоров появляется Никифоров, тащащий на буксире Ван Ибо прямо к зоне выхода, и толкает его в сторону Плисецкого. Ван Ибо растрепанный и какой-то помятый, но Юра рад ему любому.
— Привет, — говорит ему Ван Ибо, — надеюсь, я успел на твое выступление?
— Ты практически опоздал, я выхожу следующим — Юра говорит зло, складывая руки на груди, но по-другому он не умеет, не знает, как выразить то теплое чувство, что растекается у него внутри.
— Но не опоздал же, так что давай, катись, а я посмотрю насколько круче смотреть на тебя вживую, а не трансляцию.
— Ты даже не представляешь насколько я охуенен вживую, — ухмыляется Юра и отворачивается лицом к арене. Он пропустил практически всю программу соперника, но это не помешает ему выиграть сегодня.
Юра катается так, словно в сегодняшней программе — вся его жизнь, отдавая всего себя, растворяясь в музыке, прыгает, словно гравитация придумана для всех остальных, но не для него. «Не отрывай от меня взгляда», — думает Юра, — «смотри, какой я, каким могу быть, каким обязательно буду…» Замирая в центре под последние аккорды музыки, Юра думает, что не сможет доехать до тирс энд кисс, его сердце разорвется и он навсегда останется на этом льду. Он падает на колени, пытаясь отдышаться, не слыша рева трибун за шумом крови в ушах. Юра буквально падает в руки Фельцмана и Ван Ибо, висит на последнем намного дольше, чем позволяют приличия, но, кажется, Ибо не против, он сжимает его в объятиях так сильно, что даже вдохнуть полной грудью вряд ли получится.
Плисецкий почти бьет свой собственный личный рекорд, занимает первое место на текущий момент, и, после нескольких коротких ответов журналистам, утаскивает Ван Ибо в зону отдыха. Они смотрят выступления оставшихся спортсменов, Юра комментирует каждого: язвит на ошибках и скупо хвалит удачные элементы. Ибо смеется и говорит, что для человека, который так сильно возмущался его преподавательской строгостью, тот оценивает соперников слишком жестко.
На второй части программы Джей-Джея Юра вцепляется со всей дури в руку Ибо, потому что Лерой катается отвратительно хорошо, не делает помарок, у него много хороших прыжков, шансы на то, что он обойдет Юру, неумолимо растут с каждой секундой. Музыка заканчивается, зрители кричат на трибунах, а Юра пытается в уме прикинуть общую сумму баллов — у него выходит примерно столько же, сколько получил сам, и это раздражает
— Ты был лучше, — говорит ему Ван Ибо.
— Посмотрим, сколько ему дадут судьи, — парирует Юра.
У них разница в семнадцать сотых в пользу Плисецкого. Они с Ибо орут так громко, что остальные в комнате морщатся, Ибо снова сгребает его в объятия и даже немного кружит. Юре кажется, что его просто разорвет от переизбытка чувств. Фельцман находит их слишком быстро, чтобы он успел сполна насладиться этой эйфорией, и тащит его на церемонию награждения. На пьедестале Юра сияет ярче, чем все стразы и блестки с его костюма вместе взятые. Это далеко не первое его золото, но это — особенное, Юра чувствует. Не бесит даже Джей-Джей, обнимающий его за плечи для общей фотографии после церемонии.
Ван Ибо ждет его в одном из общих коридоров и выглядит таким счастливым, будто он вместе с Юрой выиграл эту медаль.
— Ты теперь чемпион России? — спрашивает Ибо, осторожно трогая медаль у Юры на груди. У него крупные ладони, и медаль кажется в них немного игрушечной.
— Это не так работает, и это не те соревнования, — отвечает ему Юра, делая шаг к Ибо, чтобы лента не так сильно натягивалась. В горле пересохло, и Юра тяжело сглатывает. — Это даже не финал Гран-при.
— Тогда как это работает? — Ван Ибо поднимает взгляд от медали и смотрит Юре в глаза. У Юры в ушах стучит сердце, и он плохо понимает, о чем его спрашивают.
— Из нас двоих вроде бы ты умный, не я.
Юра тянется вперед за поцелуем, и чувствует под губами чужую щеку. Внутри все цепенеет. Он медленно выпрямляется и делает шаг назад. Реальность обрушивается на него мгновенно: он почти поцеловал другого парня в коридоре, полном людей, часть которых он даже знает, но абсолютно все из них точно знают его, и при этом его еще и отвергли.
— Юра… — у Ван Ибо растерянное лицо, и Юра решает, что с него на сегодня, пожалуй, хватит.
Он резко разворачивается и бросается в сторону раздевалок. Медаль, которую Ван Ибо все еще держал в руке, почти ломает лентой ему шею, но Юре везет, и он успевает добежать до коридора с более высоким уровнем доступа раньше, чем Ибо успеет ему еще что-либо сказать. Он слышит, как его зовет кто-то, но не хочет ни с кем разговаривать, быстро переодевается, игнорируя душ и сметая все свои вещи в сумку одним безобразным комом, и выбегает на улицу. Его колотит, и все, чего Юра хочет — спрятаться у дедушки в квартире на остаток жизни, никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Уже из машины пишет Фельцману, что останется в Москве на неделю, жить будет у дедушки, ноги-руки ломать не будет, заниматься порочащими вещами — тоже, блокирует везде Ван Ибо и отключает телефон.
***
Плисецкий проводит неделю, не выходя из квартиры: делает вместе с дедушкой пирожки, ест их в промышленных масштабах, смотрит телевизор, погружаясь полностью в это болото абсурдных передач, смотрит в окно на прохожих. Несколько раз ему звонят Фельцман и Никифоров, но он не берет трубку. По ночам Юра лежит без сна и то борется с жалостью к себе, то лелеет разрушенную гордость и самооценку. Хочется разрыдаться, как Кацуки тогда в Сочи, чтоб слезы в три ручья, выть белугой, сопли по подушке размазывать, но внутри Юры только глухое отчаяние и ни грамма слез.
На московском вокзале Юра выходит с огромным контейнеро�� дедушкиных пирожков, чемоданом, и ��очти черными синяками под глазами. Едет сразу на тренировочную базу — и так неделю прохлаждался, он в первую очередь спортсмен, а потом уже все остальное. До Финала Гран-при рукой подать, так что будет сублимировать все свои эмоции в катание.
На арене все делают вид, словно ничего не произошло, просто съездили на соревнования и вернулись обратно, словно Юра не отсутствовал неделю, упиваясь жалостью к себе. Это неожиданно злит, и дает силы ехать быстрей, прыгать лучше, выполнять все элементы на максимальной сложности, переносит четверной тулуп из первой части произвольной во вторую, Фельцман орет на него за самовольство. Под конец тренировки Юра берет слишком большую скорость и почти впечатывается в бортик, выходя из акселя, и Яков почти выбегает на лед в ботинках, чтоб за шкирку выкинуть его в раздевалку, запретив продолжать сегодня.
Юра вечность торчит под душем, а потом прям в такси бессовестно ест дедушкины пирожки, планируя прийти домой, упасть на кровать и отрубиться до утра. Сны ему больше не снятся.
Возле подъезда как всегда огромная лужа, в которую его высаживает таксист, и не горит свет. На лавочке трется какой-то тип, алкаш, скорее всего, и Юра думает, не уйти ли ему в запой, как Никифоров однажды. Юра тогда еще был в юниорах, Никифоров непонятно где пил почти неделю, Фельцман орал на всех так, что стекла тряслись и лед трескался, а Виктор огреб таких знатных пиздюлей по возвращении, что ходил шелковым почти месяц. Яков любил повторять, что Никифоров без пиздюлей как без пряников, может, и Юре их не хватает?
Когда Юру кто-то внезапно хватает за рукав куртки возле двери подъезда, он шарахается в сторону, запинаясь об собственный чемодан, и громко вскрикивает.
— Твою мать!
— Юра, это я, — говорит незнакомец из темноты, и Юра узнает Ван Ибо по голосу, — мы можем поговорить?
«Как прекрасно», — думает Юра, — «что у нас никогда не горит свет у подъезда». Потому что у него самое глупое и растерянное выражение лица, какое только может быть. Что он еще хочет ему сказать? Юра, может не особо умный, но тогда в коридоре он в принципе все понял, можно не объяснять.
— Пожалуйста, — добавляет Ван Ибо.
— Ладно, — вздыхает Юра, пытаясь освободить руку, но Ибо не отпускает, видимо боится, что он опять сбежит. Правильно боится, хороший был бы план, — говори.
— Похоже, у нас с тобой в Москве вышло небольшое недопонимание…
— Недопонимание?! — перебивает Юра, и тут же начинает истерически смеяться. Так вот оно что. Когда ты в абсолютно не толерантной стране пытаешься поцеловать нравящегося тебе парня, а он от тебя отворачивается, то это называется недопонимание. Юра, конечно, больше склонялся к словам «унижение» и «позор», но «недопонимание» тоже можно было внести в этот список.
Ван Ибо терпеливо ждет, пока Юра успокоится, а тот не валяется на крыльце только потому, что опирается чемодан, ноги его держат не очень хорошо.
— Да там, кажется, все всё поняли, — говорит Юра хриплым голосом, отсмеявшись. — Но давай, просвети, что я там недопонял, когда ты отвернулся от меня.
— Это был просто не очень подходящий момент. Я тоже хотел тебя поцеловать. И сейчас хотел бы. Но тогда я…— Ван Ибо заминается на несколько секунд. — я не мог.
— Не мог? — эхом повторяет Юра.
— Да.
— Почему? — очень простой вопрос, подразумевающий очень простой ответ. Юре кажется, что его сейчас снова начнет прокручивать заживо через мясорубку эмоций.
— Ну, я… — Ибо молчит почти минуту, затем тяжело вздыхает и выдает на одном дыхании. — У меня был герпес на губе, и я не хотел тебя заразить, у тебя же все эти соревнования, а ты еще и постоянно в холоде.
Юре кажется, что он упустил момент, когда стал главным героем какого-то фарса. Это же просто охуеть можно, самая тупая отговорка, какую можно было придумать. Самая уебищная, просто пиздец.
— Да иди ты нахуй с такими отмазками, Ван Ибо! — шипит ему в лицо Юра, резко дергая рукой, пытаясь одновременно вырвать руку из чужой хватки, найти в куртке ключи и попасть в подъезд. Обычно бдительным старушкам с первого этажа сегодня абсолютно плевать на потасовку прямо под их окнами, они дерутся, пока Ибо, наконец, не ловит его руки в свои и не прижимает собой к стене.
— Я тебе сказал правду, — выдыхает ему Ван Ибо прямо в лицо, он слишком близко, и Юру штормит от злости на него и от никуда не девшихся при этом чувств и желаний.
— Твоя правда похожа на хуйню, трехлетки придумывают оправдания лучше! — Юра выбирает злиться, потому что это безопасней, потому что злиться он умеет лучше всех на свете.
Ван Ибо наклоняется вперед, прижимаясь губами к губам, аккуратно целует его. Юра на несколько секунд сбивается со злости, но потом отчаянно и сильно кусает Ибо за нижнюю губу, почти прокусывая до крови. Тот отстраняется от него, но ничего не говорит и не выпускает Юру из рук.
«Пиздец», — думает Юра, — «мы тут так до утра разговаривать будем такими темпами».
Кто-то выходит из дома, и свет с первого этажа через открытую дверь освещает половину лица Ван Ибо. У него примерно такой же помятый вид, как у самого Юры, на голове настоящее гнездо, нижняя губа уже начала припухать от Юриного укуса, под глазами пробиваются синяки, но сами глаза — все тот же черный омут, в который Юра проваливался в сентябре.
«Почему я не мог влюбиться в кого-то более нормального», — думает Юра и целует Ибо, как только дверь закрывается, снова оставляя их в темноте.
#wang yibo#wyb#yuri plisetsky#au#pg13#fanfic#fanfiction#college au#fic#YiboYuraFest2021#fanart#crossover#humor
0 notes
Text
Публичный бассейн

Публичные бассейны в Америке — такая претенциозная херня, Юра не знает, откуда начать рассказывать.
Он сидит на бортике, свесив ноги в голубую, как мерзкие радужки Никифорова, воду, и чувствует такую невероятную волну раздражения, что на секунду ему кажется, что у него уши дымятся.
— Юрочка, — говорит Кацудон ему в ухо, — я тебя очень прошу.
Юрочка его, конечно, не слушает, потому что он в рот ебал.
Рядом с ним, мужик в обтягивающей силиконовой шапке прыгает с бортика бомбочкой, и бирюзовая вода, закачавшись, обхватывает Юру за колени прохладными лапищами. Мужик выныривает с таким довольным лицом, что у Юры нога сама собой дергается с надеждой въехать в обтянутый силиконом лоб. Мужик улыбается Юре обезоруживающей улыбкой пенсионера, не слыхавшего про прожиточный минимум, и Юра улыбается ему в ответ.
— Я в рот ебал, — говорит он по-русски. Пенсионер показывает ему два больших блестящих от воды пальца и радостно уплывает прочь, нагоняя таких волн, что где-то в атмосфере начинает зарождаться цунами.
— Тише едешь — дальше будешь, — аккуратно выговаривает русские слова Кацудон и замолкает у Юры в ухе. Его молчание полно такой надежды, что ненависть у Юры в груди немного ослабевает.
“Блядь. Сука,” — с чувством думает он и усилием воли, достойным лучшего применения, воскрешает в памяти мерзкую харю Никифорова, просто чтобы держать себя в тонусе.
Не раскисать, тряпка.
— И чего ты этим сказать хотел? — бормочет он, немного отворачиваясь в сторону и прикрывая рукой рот, будто бы пряча зевок.
Зевнешь тут с ними со всеми.
У него в ухе Кацудон говорит с придыханием: “ха-а?”, очень, видимо, пораженный тем, что просто так вкинутая в разговор поговорка на русском не решает всех споров и проблем.
Или чего там. Хер их разберет, японцев этих, с их премудростями.
— Я хотел сказать, что мне очень жаль, что так получилось. Я правда не думал, что мы не успеем. Тебе нужно быть осторожнее и не привлекать к себе внимания, иначе я очень расстроюсь, — поясняет Кацудон голосом уже уставшего лизать раскаленные сковородки грешника. — Витя тебя прикрывает, но неожиданности имеют свойство быть… неожиданными.
“Господи,” — думает Юра и, взбрыкнув ногами, поднимает в воздух целый фонтан брызг. Женщина с вредным ребенком справа от него делают одинаковые презрительные лица.
— Эта поговорка вообще не то значит, — говорит Юра себе под нос, но судя по глухому молчанию в ухе Кацудон уже переключился на Никифорова и теперь милуется с ним по их личному каналу.
Отвратно.
Он оглядывается, просто чтобы убить время. Никаких видимых признаков того, что цель собирается объявиться в ближайшие пару минут, нет. Молчание Кацудона стреляет помехами в ухе. Скука такая, что раздражение у Юры в груди умирает в мучительных страданиях, забирая с собой все живое, что там еще оставалось.
Он размышляет о том, стоит ли искупаться или ну его, когда в голову ему прилетает мяч. Не то чтобы он был непрофессионалом и не был к этому готов, но... на самом деле, да.
Это становится такой неприятной неожиданностью, что вся было умершая злость восстает из пепла и берет его неласковой рукой за горло, заставив подавиться слюной, ненавистью и несказанными вслух словами, за которые Кацудон обязательно ему еще выскажет.
— Простите! — голосит кто-то на английском, и Юра, тщательно окрысившись, оглядывается с такой скоростью, что в шее хрустит. Встречающая его улыбка настолько глупая, что Юре приходится взять секундную паузу и откатить назад.
Но только на секунду, потому что улыбающийся ему китаец повторяет:
— Извините! — и о-о-о, Юра его в землю зароет.
— Я тебя в землю зарою, — ласково говорит он китайцу на русском. Китаец морагет, улыбается еще шире (морда у него какая-то пластиковая, а глаза как у дохлой рыбы) и вопросительно приподнимает брови.
— Инглиш? — уточняет он, и Юра собирается абсолютно резонно ответить: “Хуинглиш”, когда в ухе криком баньши оживает Кацудон.
— Цель на десять часов! — задыхаясь верещит он Юре в ухо, так громко, что даже китаец, наверное, слышит. А может и весь сраный бассейн и даже мужик в красных шортах с надписью “СПАСАТЕЛЬ” на кармане, который сидит на стуле и чешет жопу через этот самый карман вот уже минут десять.
Может он чем-то другим занят?
Юра моргает, показывает китайцу фак и отворачивается, бросая быстрый взгляд из-под челки на свою долбанную цель.
Винченцо выглядит так же уныло как на фотках, которые прислал Кацудон, что радует, но только немного. Он идет через ряды людей неторопливыми шагами человека, который имеет достаточно веса в обществе, чтобы считать свое дряблое пузо, перевалившееся через резинку трусов, охуенным. На лице у него подчеркнуто спрятаны любые крохи брезгливости. Мол: гляньте на меня, я видел некоторое дерьмо и плесканиями в общественном бассейне вместе с бедняками меня не смутишь!
Хуйло.
— Ты только посмотри на его часы, — как-то без огонька удивляется Кацудон, просравший все мыслимые и немыслимые правила, болтая со своим бойфрендом во время задания. Юре хочется сказать, что-нибудь в ответ очень-очень сильно, но он молчит, потому что за спиной у него до сих пор стоит китаец и, видимо, ищет какие-то обидные слова в ответ на Юрин фак.
— Только молчи ради бога, у тебя какой-то парень за спиной, — умоляет Кацудон, и у Юры начинает во всех местах чесаться от желания послать его нахер. Вместо этого он поднимается на ноги и потягивается, пытаясь размять занемевшую задницу.
Он изучает Винченцо сквозь ресницы и ни о чем таком не думает, когда китаец вдруг подходит так близко, что Юре кажется, что кожа на затылке сместилась. Его влажное горячее тепло греет Юре спину и задницу, и хотелось бы сказать, что в целом это ничего и приятно, но сказать так не получается. Осторожные горячие пальцы ложатся Юре на шею очень прямолинейно. Со стороны наверное выглядит даже горячо.
Юра с секунду просто праздно думает о своей сломанной шее, до тех пор пока китаец не открывает рот и не говорит ему в волосы, по-русски и без акцента:
— Слышь. Руки так, чтоб я их видел.
Критично от произошедшего не меняется ничего. Только скучающий спасатель на стуле, наконец, перестает чесать свою жопу и садится ровнее.
Юре кажется, что он отсюда слышит, как руки Кацудона стучат по клавиатуре. Дышит он так часто, как-будто только что стометровку пробежал. Лошара.
Юра не двигает ни одним мускулом, потому что он профессионал, но крик Кацудона
"Это что такое?!", наверное, будет теперь сниться ему каждую ночь до конца его жизни.
В том, что до этого знаменательного момента ему удастся еще пару раз заснуть, он не сомневается ни секунды, потому что китаец сделал тупость и, кажется, этим гордится. Ничего, нужно просто достать немного времени и подарить его Кацудону, и все будет зашибенно. Юра знает.
Кацудон выяснит, что это за хрен и какие у него слабые места, Юра сделает небольшой шантаж и все они спокойно пойдут по своим делам. Пить чай, играть в гольф и дрочить.
Все будет супер. Кацудон всегда охуенно помогает.
— Я не знаю кто это, — охуенно помогает Кацудон. Голос у него мертвый.
Юра немножко вздыхает. Рука китайца напрягается у него на шее, готовая, видимо, к решительным мерам. “Ну, сейчас, как же”, — думает Юра и открывает рот, глотая сразу целый шматок влажного воздуха.
— Без… — начинает китаец, собираясь, наверняка, сказать что-то про глупости, но Юра его опережает. Сделав огромные глаза, он орет по-английски:
— ПОМОГИТЕ!!!
После этого происходит сразу три вещи: 1) Винченцо поскальзывается на влажном полу и падает, заваливаясь вперед, как пузатая лягушка на длинных ногах, 2) кто-то меняет трек, и над бассейном ободряющим облаком начинает вихриться Абба, 3) какая-то женщина начинает пронзительно визжать.
Юра не слышит ничего из этого. Он занят тем, что идет на дно бассейна в компании ног благополучных американцев и размышляет о том, как именно он убьет абсолютно каждого, кто здесь находится.
Чтобы догадаться, что это китаец столкнул его в воду, гением быть, к счастью, не надо. Юра скрипит зубами и фантазирует о метеорите, пропарывающем атмосферу прямо над их головами, когда благополучные ноги вокруг него начинают дергаться, как умирающие рыбины. Юра не вздыхает, а только хочет и отталкивается ото дна пятками.
Поверхность встречает его такой громкой музыкой и такой впечатляющей истерикой, что целую секунду Юре кажется, что он, наконец, освоил тему убийства силой мысли и метеорит по ним все-таки ебнул.
Метеорит на котором играет Абба.
Потом, сквозь носящихся из стороны в сторону, как подожженные жирафы, людей, он видит завалившегося набок Винченцо, над которым сгорбившись сидит китаец. Рот и глаза у Винченцо широко открыты, а натекшая вокруг лужа не выглядит похожей на вишневый сок, как бы Юре этого не хотелось.
Их с китайцем взгляды сцепляются, и Юра видит в его глазах отражение своего собственного усталого неудовольствия.
— ...ра? — продирается голос Кацудона сквозь помехи к Юре в ухо, а потом сразу же умирает.
Юра набирает воздух в грудь и уходит на дно еще раз. “Просто секундочку тишины на дорожку”, — думает он.
До своей мерзотной корпоративной квартиры он добирается спустя четыре часа, чувствуя неприятное соприкосновение украденных штанов и своей голой задницы. Он бегло оглядывает оставленные ловушки и, не найдя ничего необычного, набирает номер Кацудона.
— Рапортуй, — предлагает вместо Кацудона Никифоров. Из-за этого настроение Юры ныряет на такие глубины, что у него есть все шансы повстречать рыбу-каплю и померяться с ней страданиями.
— Что? — скрипит Юра, стягивая с себя отвратительные ворованные штаны одной рукой. — Винченцо ваш сдох нахуй, вот и весь сказ.
Никифоров молчит долгую секунду (судя по звуку он что-то жрет), потом простодушно говорит:
— Да и ладно. Все равно он был мудак.
— Ты тоже мудак, — намекает Юра, решая не лишать себя удовольствия, и достает из открытого чемодана в углу комнаты свои отличные чистые трусы.
Он уносит трусы и Никифорова в трубке в ванную. Потом делает три шага назад и долго смотрит на свой чемодан. Который он сто процентов закрывал.
В затылке холодеет, но Юра все таки идет в ванную, кладет телефон с болтающим Никифоровым на край раковины и натягивает трусы, щурясь на себя в зеркало.
— Да не переживай ты так, — расслабленно, как регулярно трахающийся человек, говорит Никифоров, не уловив напряженного молчания в телефоне. — Как будто в первый раз. Помнишь в Сыктывкаре в тот раз как было? Ну, напишешь объяснительную, делов-то...
— Слышь, — перебивает Юра, глядя зеркальному себе прямо в глаза, Никифоров с готовностью мычит в трубку. — Про китайца что-то выяснилось?
— Какого китайца, — удивляется Никифоров, и Юра думает, что отличная у них все-таки команда. Слепой, тупой и Юрочка.

Между вдохами и морганиями, китаец ожидаемо вырастает у Юры за спиной. Возвышается за ним, как гора, и смотрит с вежливым интересом, склонив голову набок.
— Я перезвоню, — говорит Юра Никифорову и, не дожидаясь ответа, сбрасывает звонок.
— А что было в Сыктывкаре? — спрашивает китаец с живым интересом во взгляде и ни разу не спотыкается. Юра честно не уверен, что сам сможет выговорить Сыктывкар без запинки, вот же сука.
Никто в здравом уме не сказал бы, что Юра Плисецкий — вежливый человек. Но вот вопросы без ответа он не оставлял никогда.
Так что он наклоняется вперед, а потом со всей дури заезжает китайцу затылком в нос.
Китаец не издает ни единого звука, и в целом выглядит так, будто это самое ожидаемое для него событие за сегодня. Стекло звенит, растекаясь трещинами под голым Юриным локтем, но зато его колено выжимает из легких китайца весь воздух, и тот почти теряет равновесие, но успевает развернуть Юру и впечатать ему в бок свой кулачище. Юра бешено бодает его лбом в уже сломанный нос и не чувствует, как горячая кровь размазывается по коже. Китаец, кажется, даже не замечает, что его идеальный нос теперь сломан в пяти местах. Не моргая глазом, он делает Юре подсечку, и они оба валятся на плохо вымытый кафель. Китаец зажимает Юрину шею предплечьем, вдавливая его спину в свое тело, и шипит ему в ухо:
— Перестань.
Своими охуенными чистыми трусами и всем, что под ними, Юра чувствует впечатляющий стояк.
— Пошел нахуй, — отказывается впечатляться Юра и пытается пошевелить хоть чем-то, собираясь задействовать любые доступные ресурсы, чтобы въебать китайцу по первое число.
Ресурсы исчерпаны, — сообщают прижатые к бокам руки и ноги скованные чужими ногами.
— Осьминог ебучий, — кряхтит Юра зло. Китаец громко шмыгает кровавым носом и гудит:
— Давай, успокаивайся.
— Цхао ни ма, — сквозь зубы плюет Юра. — Гун да.
И чувствует, как китаец добро улыбается ему в затылок.
— Меня зовут Ван Ибо, — гнусаво говорит китаец и прикладывает к носу пакет замороженной брюссельской капусты, который Юра нашел в морозилке.
Он наблюдает за тем, как Юра морщась макает локоть в миску с водой и с жадным любопытством предлагает:
— Помочь?
Глаза у него начинают заплывать, несмотря на всю эту брюссельскую капусту и то, что он сам, очень профессионально, вправил себе нос. Но Юра, мельком глянув, все равно различает, какой именно у него взгляд, и от этого становится одновременно интереснее и скучнее.
Такое тупое чувство. Юра в рот ебал.
— Себе помоги, уебан, — бормочет он, изучая розовеющую воду в миске. Он старается не смотреть на Ван Ибо слишком часто, но взгляд все-равно постоянно возвращается к нему, как долбаная скрепка липнет к магниту.
— Ну, мы ведь уже это обсудили, — кажется немного обижается Ван Ибо.
Из-за капусты, которую он прижимает к лицу, не очень понятно. Ну, к счастью, Юре такие выверты всегда до одного места были.
— Я не знаю, что ты с кем там обсуждал, — говорит он и достает локоть из миски. Розовая вода капает на стол и на пол, из раны снова начинает сочиться кровь, но Юра не обращает внимания. Пшыкает из флакончика с перекисью и не морщится, изучая как вспенивается драная кожа. — Ты убил мою цель.
Ван Ибо смотрит на него огромными (но заплывшими) глазами раненной (не фигурально) лани.
— Я не убивал, — говорит он очень честным голосом. Юра достает из аптечки бинт.
— Ну, допустим, — разрешает он. — Кто тогда его убил?
Ван Ибо пожимает плечами.
— У меня есть пара мыслей.
— Целая пара, — поражается Юра и лепит на свой несчастный локоть бинтовую заплатку, которая сразу пропитывается бурым. Пахнет аптечкой и окислившейся кровью. Замотать бинт одной рукой — хитрая наука, что-то все время куда-то ускользает. Юра немного раздражается. — Ты ими поделишься или просто похвастаться хотел?
Ван Ибо ловит убегающий бинт свободной рукой и придерживает его, так что Юра наконец со всем этим справляется.
— Поделюсь, — решает Ван Ибо и улыбается как-будто ему вообще не больно.
— Юрочка, — слабым голосом шелестит Кацудон. — Я тебя очень прошу.
Вечно он что-то просит, заебал.
— Заебал ты уже, — озвучивает Юра, потому что он не какой-то терпила. — У тебя может где-то гениальные идеи завалялись, о которых ты не сообщил?
Кацудон расстроенно молчит и, видимо, идей у него все-таки как не было так и нет.
У Юры нет на все это времени. Из-под козырька кепки он косится идиотскую стеклянную многоэтажку, которая счастливо отражает солнечный свет. И от этого у него чуть глаза не вытекают.
— Говори, что хотел, мне идти пора, — говорит он недовольно.
Кацудон молчит.
— Мы просто переживаем, потому что это на тебя не похоже, — как обычно влазит, когда его не спрашивали Никифоров.
— Да, ну я бы на твоем месте не рассчитывал, что я в следующий раз возьму на себя твою работу, — угрожает Юра, потому что вот это вот на него тоже было не очень похоже.
И где он теперь?
Он переступает с ноги на ногу и смотрит на Ван Ибо, который чешет голову под кепкой и смотрит в телефон, видимо, тоже имея некоторые трудности со зрением.
Юра вздыхает.
Он тут пытается решать проблемы. У него нет времени выслушивать родительский комитет.
— Ладно, давайте. Счастья-любви-удачи, — скороговоркой говорит он в трубку, прямо поверх голоса Никифорова, блеющего очередную фигню.
Юра привык заканчивать разговор, обрывая Никифорова на полуслове, но молчание Кацудона кажется ему каким-то мудацким. Мог бы и сказать чего-нибудь, не травить душу своими восточными тонкостями.
Свинина.
Когда Юра подходит к Ван Ибо, тот сразу же убирает телефон в карман и улыбается. Улыбка у него пластиковая, а взгляд тухлый. Юра смотрит в ответ таким же.
— Почему тебе не нравится мой план? — спрашивает Ван Ибо очень ненавязчиво, почти невесомо. Похожий на избитую фею, которая немного перепутала и вместо косяка с травой употребила на завтрак чистого метамфетамина. И еще. Впервые за те часы, что Юра его знает, он различает у него в голосе какой-то непонятный кукольный акцент и задумывается, не мешают ли Ван Ибо его зубы.
Потому что если да, то у Юры есть несколько вариантов, как это можно исправить.
Юра склоняет голову к плечу, изучает какое-то время чистые ровные линии, которыми была нарисована челюсть Ван Ибо.
— Потому что твой план тупой, — поясняет он, цепляясь взглядом за опасный кадык, который кажется собирается взрезать Ван Ибо горло изнутри.
Ван Ибо сглатывает, и Юра подсознательно готовится к рекам крови, но ничего такого не происходит. Приходится вернуть взгляд обратно к буро-фиолетовой мешанине на лице Ван Ибо.
Юра вздыхает.
— Работаем по моему плану.
Они обходят здание с торца в поисках того самого входа, через который в здание проникают самые важные люди, вроде уборщиков, официантов и ребят которых прислали кого-то убить. Перед самым входом Юра в последний раз проверяет телефон и замечает сообщение от Кацудона.
Ты нарушаешь правило.
Юра не злится, просто случайно пинает стеклянную входную дверь, которая должна была разъехаться перед ним сама и разбивает ее на целый хуллиард осколков, который спешит обрушиться на него сияющим в свете ебаного солнца, дождем.
Ван Ибо успевший преодолеть стеклянную дверь замирает, а потом очень медленно оборачивается к Юре лицом. Для чувака, дважды получившего в нос Юриными самыми твердыми частями тела, глаза у него умопомрачительно огромные.
— Мистер, — укоризненно говорит охранник, стоявший до этого возле стойки ресепшена и, видимо, клеивший угнетенную этим ресепшионистку. Судя по ее взгляду, она готова лично поблагодарить Юру и заплатить за эту трижды обоссанную дверь.
Она, конечно, ничего такого не успевает, потому что как только охранник делает шаг в сторону Юры, Ван Ибо оказывается у него за спиной и сворачивает ему шею одним клинически-точным движением. Абсолютно все слышат тошнотный хруст его позвонков в тишине.
О-о-о, Юра в рот ебал.
Они — все втроем — Юра, Ван Ибо и перегнувшаяся через стойку ресепшионистка, смотрят на то, как охранник заваливается на блестящий плиточный пол, неуклюже подворачивая под себя ноги. Потом по очереди смотрят друг на друга.
— Ты уебан? — спрашивает Юра по-русски. Злое стекло опасно хрупает у него под подошвами кед.
— Фак, — шепчет девушка себе под нос.
— Это ограбление, — поясняет Ван Ибо для девушки.
— Дохуя похоже, — соглашается Юра, стараясь чтобы ни капли яда с его языка не пропало зря.
— Это же вход для стаффа, — бормочет девушка. Она зачем-то поднимает руки вверх, хотя у Ван Ибо нет оружия. На виду. — Что вы тут будете красть?
— Да, — с искренним любопытством говорит Юра. — Что мы тут будем красть?
Ван Ибо пожимает плечами и улыбается девушке всей своей избитой красотой. Она едва заметно морщится в ответ. Мертвый охранник лежит на плитке, подвернув под себя руки, как потенциально самая огромная мигрень, что будет у Юры на этой неделе.
— У меня есть план, — сообщает Ван Ибо сразу для всех и идет к стойке ресепшена уверенным пружинистым шагом. Девушка в панике сдает назад, до тех пор пока не упирается спиной в дверь, и она, наверное, могла бы и сама сквозь стену просочиться, но Ван Ибо немного ей помогает, вталкивая ее куда-то в подсобку к швабрам, если Юра все правильно разглядел.
— Сиди тихо, — стращает напоследок Ван Ибо и заклинивает замок, потому что видимо верит испуганным девочкам не больше Юриного.
Юра снова немного хрустит стеклом под подошвами, косится на мертвого охранника. Со вздохом достает из кармана телефон.
"Ты нарушаешь правило", — встречает его как ни в чем не бывало, и теперь поблизости нет дверей, которые можно было бы грохнуть, чтобы куда-нибудь девать свое недовольство. А он ведь и в первый раз этого не делал. Так что Юра просто долго смотрит на смайлики после имени Кацудона, а потом гасит экран и снова заталкивает телефон в карман рабочих штанов. Хороший был план. Почему нельзя было работать по плану?
Ван Ибо колупается в компьютере, видимо, выясняя на каком этаже и в каком номере расположился их чувак. Выглядит это как попытка всосать через жопу океан, на Юрин взгляд, но он тактичный человек.
Поэтому он только кисло замечает:
— Да он, скорее, сам сюда припрется, чем ты его там найдешь, — и отпинывает от себя стеклянную крошку.
Он подходит к ресепшену и упирается в стойку локтями. Это не такой ресепшен, который встречает тебя на входе в дорогой отель. Он маленький и куцый, и Юре становится грустно от того, что кто-то тратит бесконечно долгие часы своей жизни, просиживая за этим объебосным столом и, скорее всего, играя в косынку.
Он оглядывается на мертвого охранника с каким-то даже облегчением. Потом кое о чем вспоминает и быстро отворачивается, усилием воли пытается заставить себя об этом забыть. Только мысль эта — как дерьмо в кошачьем лотке по утру. Сколько не ворочайся в кровати, пытаясь скрыться от вони — вставать все же придется.
— Надо убрать тело, — безжалостно напоминает Ван Ибо не поднимая головы. Юра громко стонет и упирается лбом в скрещенные предплечья.
— Это ты его нисхуя убил, — отстраненно замечает он, но уже злобно отталкивает свое тело от стойки. Тут ничего не поделать. У Ван Ибо есть план, а Юрин план, судя по всему, сосет жопу.
— Почему нисхуя? — удивляется Ван Ибо, пока Юра тащится по битому стеклу к охраннику. Он здоровенный. Господи. — Так было в плане.
Юра думает о том, что надо было наверное послушать план Ван Ибо дальше фразы: “У меня есть план”.
Сука.
Юра оглядывается по сторонам и единственное место куда можно спрятать внушительное мертвое тело оккупированно Ван Ибо.
— Я засуну его под стойку, — предупреждает Юра и берет охранника за ноги и тащит. Осколки скрипят по блестящей плитке сцарапывая с нее глазурь.
Охранник тяжелый именно настолько, насколько тяжелым должен быть стокилограммовый мужик в бронежилете. Юра вспоминает как дед всегда уточнял не развязался ли у него пупок, после того как он поднимал что-то неподобающее его пиздючьему статусу.
— М-м, — умеренно-осмысленно соглашается Ван Ибо и отходит в сторону. — Двадцать девятый этаж, — говорит он. И, видимо, просто чтобы побыть сволочью, затрачивает еще меньше усилий, чем должен был по Юриным прикидкам.
“Кажется все же развязался, деда”, — грустно думает Юра.
На шестом этаже карман Юриных штанов начинает вибрировать. В зеркальной двери лифта Ван Ибо косится на него апатичным, полным сомнительной доброты взглядом и замечает:
— Тебе звонят.
Юра хочет сказать: “Спасибо, блять, за новости”, но думает на двенадцать секунд дольше, чем должен был бы, и к ним в лифт заходит мужик. Неловкости всегда есть куда развиваться, Юра культивирует в себе эту мысль целых две минуты и двадцать семь секунд и только после этого осознает, что мужик ему знаком.
Можно не узнать скособоченную рожу Винченцо, но его жирный пузан — совсем другая история.
Юра нашаривает в кармане синюю изоленту и сжимает её в кулаке очень крепко, пытаясь немного подумать, но мысль выходит только одна: "Охуеть, может, это его брат-близнец?".
До самого восемнадцатого этажа Юра пытается эту мысль от себя как-нибудь отпихнуть, но выходит только задуматься сильнее. А когда на восемнадцатом этаже двери, звякнув, открываются, у Юры отнимается корень языка, от чего он давится слюной и кашляет в кулак. Потом еще раз. Потом Ван Ибо пихает его локтем да так и оставляет руку прижатой к Юриному боку.
— Джеромо! — кричит Винченцо и обнимает спасателя в красных шортах, который чесал в бассейне жопу. Сейчас он без шорт, конечно, но Юра узнает его по агрессивному загару и расслабленному подбородку, человека, который привык, что все трудности в жизни можно хорошенько выебать. Юра запомнил, потому что такая у него работа.
— Сеньор Винченцо, — вежливо говорит Джеромо.
Юра честно пытается сообразить что тут происходит, но вот маленький минус отработанной годами стрессоустойчивости — он не находит в себе даже граммулечки любопытства. Зато охуения у него такие реки, что можно три водохранилища заполнить.
Юре все никак не удается с ним справиться.
Винченцо и Джеромо выходят на двадцать девятом этаже, оставив после себя напряженную тишину и двоих чуваков, одетых в костюмы электриков.
Юре следовало бы сказать, что план Ван Ибо тоже был тупой, да и сам Ван Ибо тоже. Но сил у него хватало пока что только на то, чтобы не взять телефон и не набрать Кацудона. Чтобы просто орать ему в ухо на одной ноте, пока он как-нибудь не решит всю эту хуету.
— Как ты умудрился просрать, что он жив? — монотонно спрашивает Юра, глядя строго перед собой. Локоть Ван Ибо давит ему в какой-то синяк, и от этого только еще больше хочется дать ему в нос третий раз.
— Он не был жив, — сквозь зубы выдавливает Ван Ибо.
Они стоят в лифте, который никуда не едет так долго, что Юра вдруг с ужасом вспоминает, что в этом сраном здании где-то сорок этажей и не едущий никуда лифт — это удивительное и невозможное событие.
Он лезет правой рукой в карман штанов за телефоном, а левой — к себе под спецовку, когда двери лифта с тусклым звяканьем разъезжаются в стороны и Джеромо говорит:
— Да выходите уже, мы вас ждем.
И опять исчезает, будто его и не было.
Юра долго играет желваками, сжимая и разжимая зубы. Он отпускает телефон, теперь уже не сомневающийся в том, что Кацудон не сможет ему помочь. На Ван Ибо он не смотрит, бросает только:
— Китайская разведка — говно, — и выходит из лифта.
— Ну что, как будем разговаривать?
Номер у Винченцо такой, что какой-нибудь президент застеснялся бы, окажись он тут, среди всех этих роскошеств.
Джеромо стоит у окна сложив руки на груди и выглядит Очень Профессионально. Сам Винченцо раскладывает какой-то уебанский пасьянс, и Юре до смерти охото закатить глаза, но судя по плотно сжатым губам Ван Ибо — это плохая идея.
— А как вы хотите? — уточняет Ван Ибо вежливо. Его английский настолько идеален, что он мог бы преподавать какой-нибудь философию и пиздеть о ней без передышки по восемь пар в день. И, Юра уверен, смысла в этом было бы примерно столько же, сколько его в номере Винченцо ��рямо сейчас. Абсолютный ноль. Винченцо, видимо, тоже удивившись, моргает, поднимает взгляд от карт и смотрит на Ван Ибо. Тот по-социопатски добавляет: «Мы просто пришли починить электричество».
Все в номере, включая Юру, смотрят на Ван Ибо с сомнением.
— А в бассейне вы что чинили? — добро спрашивает Винченцо и обращает внимание обратно к картам.
Ван Ибо не мешкает, он открывает рот, готовый уже спиздануть что-то, что ослепленный неверящим ужасом мозг Юры наверняка откажется воспринимать как человеческую речь, но в этот момент в дверь деликатно стучат.
Винченцо смотрит на Джеромо, который не сводит взгляда с Юры, и почему-то кажется, что ему не хватает его красных шорт, чтобы справиться со своей чешущейся жопой. На Ван Ибо никто не смотрит и, наверное, только это заставляет того закрыть свой рот.
— Никому не двигаться, — говорит Джеромо глядя прямо на Юру.
— Лады, — отвечает пересохшее Юрино горло, а Ван Ибо все так же помалкивает, но вид у него бодрый. Он кажется планирует выйти из этой ситуации без лишних дырок. Потому что он просто электрик. Уму непостижимо.
“Как бы было просто, если бы можно было здесь всех убить”, — думает Юра тоскливо, наблюдая за ��ем, как Джеромо идет к двери, Очень Профессионально держа в руке пистолет.
Он только успевает повернуть собачку, а в следующую секунду дверь уже выносят с ноги и с бесшумным вжиканьем пули впиваются в Джеромо, отчего он отлетает шага на три и чуть не заваливает своим телом Ван Ибо.
— Ох, — говорит Ван Ибо.
Юра не сразу понимает, что Винченцо тоже словил пулю лбом. А когда понимает, все уже настолько пошло не так, что можно просто забить и принять смерть с честью. Поэтому он молча разворачивается к двери.
Где теперь вместо Джеромо Очень Профессионально стоит Никифоров, оглядываясь по сторонам с каким-то не слишком впечатленным видом.
Заметив, что Юра пялится на него, Никифоров широко улыбается и опускает пистолет.
— Господи, — мертвыми губами говорит Юра. — Да откуда ты, блядь, взялся?
Никифоров непонимающе оглядывается еще раз, потом смотрит на Юру немного неуверенно.
— Прилетел на вертолете? — предлагает он осторожно. — Привет, — добавляет он специально для Ван Ибо.
— Здравствуйте, — вежливо отвечает тот, и Юре хочется выдрать себе нахуй волосы, а потом застрелиться.
— Ты хоть видел кого убил? — спрашивает он. Никифоров смотрит на него с таким недоумением, будто он снимается в шоу про выяснение отцовства при помощи ДНК и результаты показали, что он отец всех детей в студии и еще ведущего. — Винченцо, блядь, разве не должен был выжить любой ценой? Бля! Надо проверить, вдруг он опять не умер!
Никифоров моргает пару раз.
— Ты в норме? — спрашивает он обеспокоенно и немного агрессивно уточняет у Ван Ибо, — он в норме?
Ван Ибо вздыхает.
— Насколько это возможно, — угрюмо отвечает он и идет в сторону Винченцо.
— Погодите, блядь, — просит Юра. Никифоров убирает пистолет в кобуру и подходит к Юре осторожно, как к обдолбанному медведю.
В кармане у Юры снова начинает вибрировать телефон. Это настолько неожиданное и лишнее ощущение, что он выхватывает трубку и нажимает на зеленую кнопку до того как мозг успевает осознать, что он вытворяет.
— Слышь! — орет Юра, особенно не стесняясь. — Объяснись немедленно!
— Юрочка, — твердым голосом говорит Кацудон. — Я тебя очень прошу.
В вертолете невозможно разговаривать. Юра настолько этому рад, что его лицо освещает ласковая улыбка. Правда Никифоров и Ван Ибо, зажавшие его с двух сторон своими боками, кажется немного нервничают, но Юра этому рад.
Так им, блядь, и надо. Юра все еще не простил им сраного Винченцо, который потирая синяк на лбу пожимал ему руку. Про хмурого Джеромо и разговаривать нечего.
Вокруг него одни ублюдки, боже.
Юра дуется минут десять, а потом, как обычно оказывается, что Ван Ибо — отбитый на всю голову. Потому что он притискивает свою разбитую рожу к Юре очень близко и аккуратно берет его за вцепившиеся в штанину пальцы.
— Ты хорошо справился, — доверительно сообщает он Юре в ухо. От его дыхания Юре становится жарко и начинает бесить Никифоров.
— Да иди ты нахуй, — злится Юра и отпихивает Ван Ибо от себя. Получается не очень хорошо, потому что места очень мало, а Ван Ибо под рубашкой твердый и жилистый. — Какой у этого экзамена порог прохождения? Облажаться максимально-возможное количество раз? Не умереть?
Ван Ибо как-то очень очевидно молчит.
— Да нет, он прав, — говорит Никифоров светским тоном. Ну, то есть орет, перекрикивая без устали перемалывающие воздух лопасти пропеллера. — Очень неплохо, учитывая в каких ты был условиях. Думаю, получишь пятерку. Ну, может с небольшим минусом, за разбитую дверь. Это было не слишком профессионально, Юра.
— Ты тоже завали, — советует Юра. Ему хочется надуться и отвернуться к окну, но он зажат между двумя тупорылыми козлами. Один из которых, видимо, теперь его напарник.
Никифоров улыбается Юре неосторожной улыбкой человека, не привыкшего, что в жизни у кого-то кроме него есть экранное время. Он снисходительно отворачивается к окну, продолжая улыбаться.
Ван Ибо снова придвигается ближе. Он выглядит взволнованным и одновременно собранным. Облизывает губы и моргает длинными ресницами, как будто набирается смелости что-то сказать.
Юра ждет затаив дыхание, но Ван Ибо только делает нежный, почти неразличимый выдох и снова трогает Юру за руку.
В этот раз Юра решает с этим ничего не делать. Но только в этот раз.
Ao3 link: https://archiveofourown.org/collections/YiboYura_Fest_2021/works/34548820
#wang yibo#wyb#yuri plisetsky#au#pg13#fanfic#fanfiction#action#canon-typical violence#fic#YiboYuraFest2021#fanart#crossover#humor
2 notes
·
View notes